становится причиной смерти своей матери - она позволяет юноше целовать
себя, а мать (у которой больное сердце) видит эту сцену в зеркале. С
подобной темой мы снова встретимся, когда мадемуазель Вентен глубоко
опечалит своего отца и, с другой стороны, когда рассказчик (или же сам
Пруст) своей слабостью и неспособностью трудиться принесет огорчение
бабушке.
"комплексы", начинающие вибрировать, едва их пробудит какая-то тема такой
же резонирующей силы, и единственно способные породить ту неповторимую
мелодию, которая и заставляет нас любить именно этого автора. Вот почему
некоторые писатели постоянно переписывают одну и ту же книгу; поэтому в
каждом из своих романов Флобер обуздывает свой неисправимый романтизм;
поэтому Стендаль трижды выводит юного Бейля под именем Жюльена Сореля,
Фабрицио дель Донго и Люсьена Левена, и поэтому в двадцать пять лет
угловатыми мелодиями "Утех и дней" Пруст намечает великую симфонию "В
поисках утраченного времени" и немного позднее, в неоконченном романе "Жан
Сантей", который при жизни его не увидит света, - основные темы своего
творения.
нужной дистанции. Он сам объясняет, что стать великим художником можно
лишь после того, как окинешь взором свое собственное существование. И
неважно, представляет ли это существование исключительный интерес и
обладает ли автор могучим умственным аппаратом, - важно, чтобы этот
аппарат мог, как выражаются летчики, "оторваться". Чтобы Пруст сумел
"оторваться", события должны были увести его от реальной жизни.
гения произвели необходимый, эффект. Сначала обострилась астма; пребывание
на лоне природы вскоре стало для него совершенно невозможным. Не только
деревья и цветы, но даже самый легкий растительный запах, занесенный
кем-нибудь из друзей, вызывали у него невыносимое удушье. Еще долго
продолжал он проводить лето на берегу моря, в Трувиле или в Кобурге;
позднее ему пришлось отказаться и от этих ежегодных поездок.
жизни и в его искусстве огромную роль: речь идет о Рескине. Сам он перевел
две его книги, "Амьенскую Библию" и "Сезам и Лилии", снабдив свои переводы
сносками и предисловиями. У двух этих писателей было немало общего: обоих
в детстве окружала слишком нежная забота родных, оба вели существование
богатых дилетантов - существование, опасное тем, что при этом утрачивается
контакт с тяжелой повседневностью, но имеющее и свою хорошую сторону: оно
сохраняет остроту восприятия, которое позволяет любителю прекрасного,
защищенному таким образом, улавливать тончайшие нюансы. Именно у Рескина
Пруст научился понимать - значительно лучше, нежели сам Рескин, -
произведения искусства. Именно Рескин побудил Пруста совершить
паломничество к Амьенскому и Руанскому соборам. Рескин представлялся ему
духом, оживившим мертвые камни. Пруст, который больше не путешествовал,
нашел в себе силы отправиться в Венецию, чтобы увидеть там воплощение идей
Рескина об архитектуре - дворцы "угасающие, но все еще живые и розовые".
был для Пруста одним из тех писателей-посредников, которые необходимы нам,
чтобы соприкоснуться с реальностью. Рескин научил его вглядываться в
цветущий куст, в облака и волны и рисовать их с той тщательностью, которая
напоминает некоторые рисунки Гольбейна или японских художников. Зрение у
Рескина было поистине микроскопическим. Пруст перенял его метод, но развил
его гораздо дальше, чем учитель, и с тою скрупулезностью, образцом которой
служил ему Рескин, подошел к изображению чувств. Возможно, что без любви,
которую он испытывал к творчеству Рескина, он так и не нашел бы себя. Вот
почему бесчисленные последователи Пруста во Франции являются в то же время
последователями Рескина, чего они, однако, не ведают, ибо достаточно уже
одного экземпляра какой-нибудь книги, занесенной волею случая и проникшей
в сознание, которое представляет благоприятную почву для этого особого
мироощущения, чтобы в стране привился совершенно новый литературный жанр,
подобно тому как достаточно одного занесенного ветром зерна, чтобы
растение, на данной территории не произраставшее, внезапно
распространилось на ней и ее покрыло.
отношению к матери, так верившей в него, но не дождавшейся результатов его
работы, заставили его тогда стать настоящим затворником или дело было
только в болезни? А может, болезнь и упреки совести были только предлогом,
которым воспользовалась жившая в нем бессознательная потребность написать
произведение, уже почти созданное воображением? Трудно сказать. Во всяком
случае, именно с этого момента начинается та самая ставшая легендой жизнь
Пруста, о которой его друзья сберегли для нас воспоминания.
при постоянно закрытых окнах, дабы неуловимый и болезнетворный запах
каштанов с бульвара не проникал внутрь; среди дезинфицирующих испарений с
их удушливым запахом, в вязаных фуфайках, которые, перед тем как надеть,
он обязательно греет у огня, так что они становятся дырявыми, как старые
знамена, изрешеченные пулями... Это время, когда, почти не вставая, Пруст
заполняет двадцать тетрадей, составляющих его книгу. Он выходит лишь ночью
и только затем, чтобы найти какую-то деталь, необходимую для его
произведения. Часто его штаб-квартирой становится ресторан "Риц", где он
расспрашивает официантов и метрдотеля Оливье о разговорах посетителей.
Если ему нужно увидеть памятные с детства цветы боярышника, дабы лучше их
описать, он отправляется за город в закрытой машине.
знает, что книга его прекрасна. Он не мог этого не знать. Человек, который
писал Подражания Флоберу, Бальзаку и Сен-Симону, свидетельствующие об
отличном понимании этих великих писателей, был слишком тонким литературным
критиком, чтобы не сознавать, что и он в свой черед создал выдающийся
памятник французской литературы. Но как заставить принять это
произведение? У Пруста не было никакого "положения" в литературе, и если
даже, как мы только что говорили, у него и было определенное "реноме",
свойство оно имело отрицательное. Профессиональные писатели были склонны
питать недоверие к тому, что исходило от этого дилетанта, ибо он был богат
и имел репутацию сноба.
отказали. Наконец в 1913 году ему удалось опубликовать первый том, "В
сторону Свана", у Бернара Грассе, правда, за свой счет. Успех книги был
невелик. К тому же очень скоро война прервала публикацию, так что второй
том появился лишь в 1919 году, на сей раз в "Нувель ревю франсез". Честь
"открытия" Марселя Пруста принадлежит Леону Доде. Благодаря ему Пруст
получил в 1919 году премию Гонкуров, которая принесла известность
множеству талантливых писателей. Теперь он стал знаменит, и не только во
Франции, но и в Англии, Америке и Германии, где его произведение сразу же
нашло аудиторию, которую заслуживало. Англосаксонская литература всегда
была Прусту особенно близка.
литература не имела на меня такого воздействия, как литература английская
и американская, во всех своих многообразнейших направлениях - от Джордж
Элиот до Харди, от Стивенсона до Эмерсона? Немцы, итальянцы, а весьма
часто и французы оставляют меня равнодушным. Но пара страниц "Мельницы на
Флоссе" вызывает у меня слезы. Я знаю, что Рескин терпеть не мог этот
роман, но я примиряю всех этих враждующих богов в пантеоне моего
восхищения..."
писатель, но один из тех редких первооткрывателей, которые вносят в
развитие литературы нечто совершенно новое.
Следовательно, в ту пору, когда у него появилась широкая аудитория, жить
ему оставалось немного; он знал об этом и постоянно говорил о своей
болезни и близкой смерти. Ему не верили; друзья улыбались; его считали
мнимым больным. А он, оставаясь в постели, работал, правил, завершал свое
произведение, вносил дополнения, вставлял новые куски, и корректурные
листы, так же как и его фуфайки, становились похожи на старые знамена. К
тому же, был он смертельно болен или нет, он и без того губил себя
кошмарным режимом, снотворными и работой, тем более лихорадочной, что он
не был уверен, успеет ли закончить книгу, прежде чем умрет. Примерно в это
время он писал Полю Морану:
смерть".
осторожнее; но он, заболев воспалением легких, отказался от помощи врачей
и умер. За несколько дней до этой болезни на последней странице последней
тетради он написал слово "конец".
пытался диктовать сделанные им дополнения и поправки к тому месту в его
книге, где описана смерть Бергота - большого писателя, созданного его
воображением. Как-то он сказал: "Я дополню это место перед своей смертью".
Он попытался это сделать, и одним из последних его слов было имя его
героя. Рассказ о смерти Бергота заканчивается у Пруста следующими словами:
опыты, равно как и религиозные догмы, не приносят доказательств того, что
душа продолжает существовать. Можно только сказать, что в жизни нашей все
происходит так, как если бы мы вступали в нее под бременем обязательств,
принятых в некой прошлой жизни; в обстоятельствах нашей жизни на этой
земле нельзя найти никаких оснований, чтобы считать себя обязанным делать
добро, быть чутким и даже вежливым, как нет оснований для неверующего


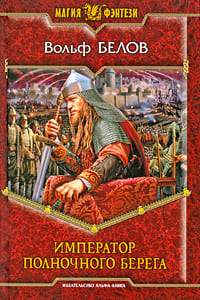
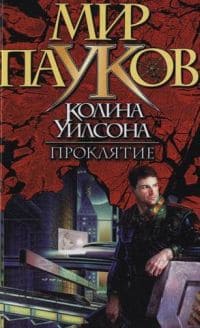

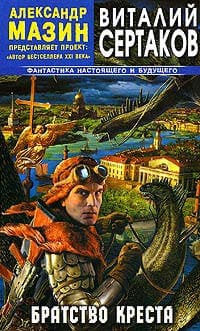
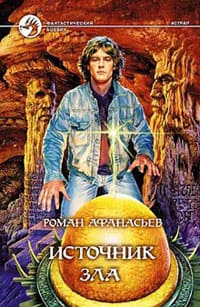 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман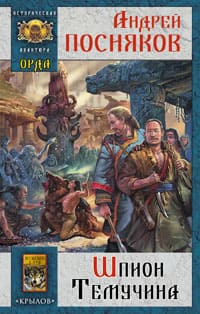 Посняков Андрей
Посняков Андрей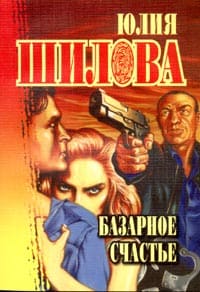 Шилова Юлия
Шилова Юлия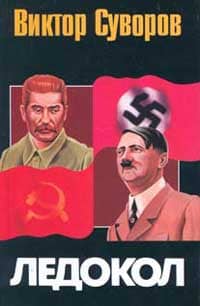 Суворов Виктор
Суворов Виктор Прозоров Александр
Прозоров Александр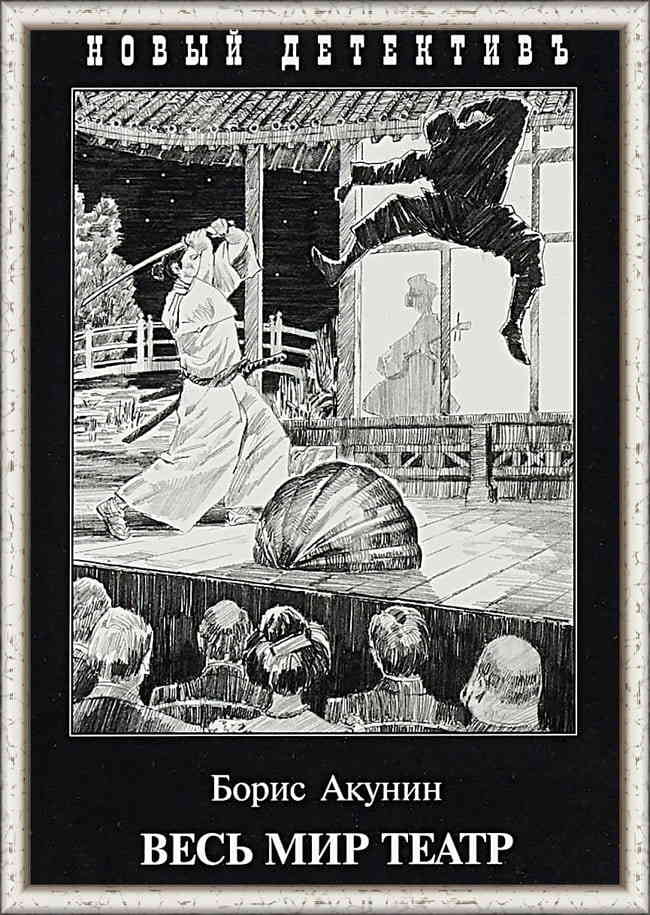 Акунин Борис
Акунин Борис