Владимир Набоков.
Под знаком незаконнорожденных
1
ноги, до краев наполненный ртутью; как оставленная лопатой лунка, сквозь
которую видно небо внизу. Окруженная, я замечаю, распяленными щупальцами
черной влаги, к которой прилипло несколько бурых хмурых умерших листьев.
Затонувших, стоит сказать, еще до того, как лужа ссохлась до ее настоящих
размеров.
четою домов. Приглядись. Да, она отражает кусок бледно-синего неба -- мягкая
младенческая синева -- молочный привкус во рту: у меня была кружка такого же
цвета лет тридцать пять назад. Она отражает и грубый сумбур голых ветвей, и
коричневую вену потолще, обрезанную ее кромкой, и яркую поперечную кремовую
полоску. Вы кое-что обронили, вот, это ваше, кремовый дом вдалеке, в сиянии
солнца.
зачаточный водоворот собирает блеск лужи в складки. Два листа, два
трискалиона, как два дрожащих трехногих купальщика, разбегаются, чтоб
окунуться, рвение заносит их в середину лужи и там, внезапно замедлив, они
плывут, став совершенно плоскими. Двадцать минут пятого. Вид из окна
больницы.
асфальт: все они в ярком холодном солнце, в яркой роскошно мохнатой коре, в
путанных перегибах бесчисленных глянцевых веток, старое золото, -- потому
что там, вверху, им достается больше притворно сочного солнца. Их
неподвижность спорит с припадочной зыбью вставного отражения, ибо видимая
эмоция дерева -- в массе его листвы, а листьев осталось, может быть,
тридцать семь, не больше, с одного его бока. Они немного мерцают, легкий
приглушенный тон, солнце доводит их до того же иконного лоска, что и
спутанные триллионы ветвей. Бледные облачные клочья пересекают обморочную
небесную синеву.
дома обрамляют два боковых кремовых пилястра и широкий пустынный бездумный
карниз: глазурь на залежавшемся в лавке пирожном. День вычернил окна. Их
тринадцать; белая решетка, зеленые ставни. Все очень четко, но день протянет
недолго. Что-то мелькает в черноте одного из окон: вечная домохозяйка
распахни, как говаривал во дни молочных зубов мой дантист, доктор Воллисон,
-- открывает окно, что-то вытряхивает, а теперь можешь захлопнуть.
Многорукие тополя отбрасывают на него алембики восходящих полосатых теней,
заполняя пустоты между своими полированными черными распяленными и кривыми
руками. Но все это блекнет, блекнет, она любила сидеть в поле, писала закат,
который не станет медлить, и крестьянский ребенок, очень маленький, тихий и
робкий, при всей его мышиной настырности стоял у ее локтя и глядел на
мольберт, на краски, на мокрую акварельную кисточку, заостренную, как жало
змеи, но закат ушел, побросав в беспорядке багровые останки дня, сваленные
абы как -- развалины, хлам.
окошко мансарды, к которой она ведет, стало теперь таким же ярким, какой
была лужа, -- она же теперь обратилась в хмурую жидкую белизну, рассеченную
мертвой чернотой, -- бесцветная копия виденной недавно картины.
домом (к которому боком стоит пятнистый). Лужайки одновременно растрепанной
и лысоватой с пробором асфальта посередине, усыпанной тусклыми бурыми
листьями. Краски уходят. Последнее зарево тлеет в окне, к которому еще
тянется лестница дня. Но все кончено, и если в доме зажгут свет, он умертвит
то, что осталось от дня снаружи. Клочья облаков пылают телесно-розовым, и
триллионы ветвей обретают необычайную четкость; а внизу красок уже не
осталось: дома, лужайка, ограда, вид между ними -- все ослабело до
рыжевато-седого. Нет, стекло лужи становится ярко-лиловым.
чернильно-черным с бледно-синим чернильным небом, -- "пишут черным,
расплываются синим", как обозначено на склянке чернил, но здесь не так, не
так расплывается небо, но так пишут деревья триллионами их ветвей.
2
Движение (пульсация, свечение) этих черт (мятые складки) причинялось ее
речами, и он осознал, что это движение длится уже несколько времени.
Возможно, на всем пути вниз по больничным лестницам. Блеклыми голубыми
глазами и морщинистым долгим надгубьем она была схожа с кем-то, кого он знал
много лет, но припомнить не мог -- забавно. Боковыми ходами равнодушного
узнавания пришел он к тому, чтобы определить ее в старшие сестры.
Продолженье ее речей вошло в его существо, словно игла попала в дорожку. В
дорожку на диске его сознания. Его сознания, которое закрутилось, едва он
стал в проеме дверей и глянул вниз на ее запрокинутое лицо. Движение этих
черт теперь озвучилось.
акцентом: "fakhtung" вместо "fahtung". Особа (мужеска пола?), с которой она
была схожа, выглянула из тумана и спряталась, прежде чем он смог ее опознать
-- или его.
городе темно, на улицах опасно. Право, вам лучше бы здесь провести ночь... В
больничной кровати -- (gospitalisha kruvka -- снова этот болотный акцент, и
он ощутил себя тяжелой вороной -- kruv, помавающей крыльями на фоне заката).
-- Пожалуйста! Или хоть подождите доктора Круга, он на машине.
стоит не стоит (слово продолжало крутиться, уже истратив свой смысл).
далеко, что развернул означенный документ дрожащими пальцами. У него были
толстые (дайте подумать), неловкие (вот!) пальцы, всегда немного дрожавшие.
Когда он что-нибудь разворачивал, щеки его засасывались снутри и еле слышно
причмокивали. Круг, -- ибо это был он, -- показал ей расплывчатый документ.
Он был огромный мужчина, усталый, сутулый.
шальная пуля.
ночи -- метеоритными осколками давно прекращенной пальбы.)
перейти. Завтра зайдет мой друг, чтобы все подготовить.
нажиму слез. Облегчение было недолгим, ибо едва он позволил им литься, они
полились обильно и немилосердно, мешая дышать и видеть. В судорогах тумана
он брел к набережной по мощеной улочке Омибога. Попытался откашляться, но
это вызвало лишь новую конвульсию плача. Он сожалел уже, что уступил
искушению, потому что не мог взять уступку назад, и трепещущий человек в нем
пропитался слезами. Как и всегда, он отделял трепещущего от наблюдающего:
наблюдающего с заботой, с участием, со вздохом или с вежливым удивлением. То
был последний оплот ненавистного ему дуализма. Корень квадратный из Я
равняется Я. Нотабенетки, незабудки. Чужак, спокойно следящий с абстрактного
брега за течением местных печалей. Фигура привычная -- пусть анонимная и
отчужденная. Он видел меня плачущим, когда мне было десять, и отводил к
зеркалу в заброшенной комнате (с пустой попугайной клеткой в углу), чтобы я
мог изучить мое размываемое лицо. Он слушал, поднявши брови, как я говорил
слова, которые говорить не имел никакого права. В каждой маске из тех, что я
примерял, имелись прорези для его глаз. Даже в тот самый миг, когда меня
сотрясали конвульсии, ценимые мужчиной превыше всего. Мой спаситель. Мой
свидетель. И Круг полез за платком, тусклой белой бирюлькой в глубине его
личной ночи. Выбравшись, наконец, из лабиринта карманов, он промокнул и
вытер темное небо и потерявшие форму дома; и увидел, что близок к мосту.
блеском, и каждую его стопу подхватывали и продлевали отражения в черной
змеистой воде. В эту ночь что-то расплывчато тлело лишь там, где гранитный
Нептун маячил на своей квадратной скале, каковая скала прорастала парапетом,
каковой парапет терялся в тумане. Едва только Круг, степенно ступая,
приблизился, как двое солдат-эквилистов преградили ему дорогу. Прочие
затаились окрест, и когда скакнул, словно шахматный конь, фонарь, чтобы его
осветить, он заметил человечка, одетого как meshchaniner [буржуйчик],
стоявшего скрестив руки и улыбавшегося нездоровой улыбкой. Двое солдат (оба,
странно сказать, с рябыми от оспы лицами) интересовались, как понял Круг,
его (Круга) документом. Пока он откапывал пропуск, они понукали его
поспешить, упоминая недолгие любовные шалости, коим они предавались или
хотели предаться, или Кругу советовали предаться с его матерью.
фантазии, вскормленные, подобно личинкам, на древних табу, могли и впрямь
претвориться в дела, -- и по самым разным причинам. Вот он (он едва не
забрел незнамо куда, пока я беседовал с сиротой, -- я разумею, с нянькой).
изучали его, Круг высморкался и неспешно вернул платок в левый карман
пальто, но поразмыслив, переправил его в правый, брючный.
большого пальца, сжимавшего бумагу. Круг, держа у глаз очки для чтения,





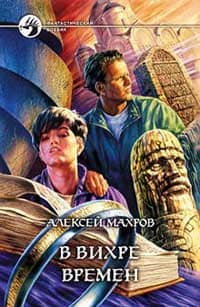
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей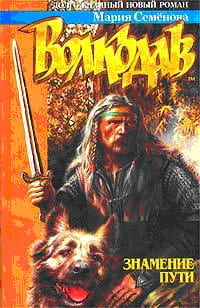 Семенова Мария
Семенова Мария Лукин Евгений
Лукин Евгений