и во всех тех хрустальных и золотых флакончиках для духов, что отражались в
ее зеркале, -- распределение влаги было б неравным и несправедливым, но его
можно было бы сделать и справедливым и равным, либо выровняв содержимое,
либо устранив затейливые сосуды и приняв стандартный размер. Он ввел идею
равновесия как основания всеобщего блаженства и назвал свою теорию
"Эквилизмом". Это, уверял он, теория совершенно новая. Правда, социализм
отстаивал однородность в экономической плоскости, а религия мрачно
предрекала ее же в плоскости духа -- как неизбежное состояние в загробном
мире. Но экономист не понял, что сколько-нибудь успешное выравнивание
богатств неосуществимо, да, собственно, и не является вообще моментом
действительности, пока существуют особи, у которых ума или нахальства
больше, чем у прочих; подобным же образом и священнослужитель не осознал
пустоты его метафизических посулов для тех избранников (причудливых гениев,
охотников за крупной добычей, шахматистов, чудовищно выносливых и
разносторонних любовников, сияющей женщины, что после бала снимает
ожерелье), которым этот мир представляется раем в себе и которые вечно будут
на очко впереди, что бы ни сталось с нами со всеми в плавильном тигле
вечности. И даже, говорил Скотома, если последние станут первыми и наоборот,
представьте, как покровительственно ухмыльнется ci-devant Вильям Шекспир при
виде прежнего бумагомараки, автора безнадежно убогих пиес, заново
процветшего на небесах в виде поэта-лауреата.
соответствии с выверенным шаблоном, автор осмотрительно не стал определять
ни практического способа, коего при этом следует придерживаться, ни того,
какого именно толка личности или личностям надлежит поручить планирование
этого процесса и его выполнение. Он удовольствовался тем, что повторял на
протяжении всей своей книги: разница между самым гордым умом и самой
смиренной тупостью целиком зависит от степени конденсации "мирового
сознания" в том или в ином индивидууме. Пожалуй, он думал, что
перераспределение и соразмерение оного последуют автоматически, как скоро
читатели уверуют в истинность главной посылки. Следует также заметить, что
достойный утопист подразумевал весь синий и туманный мир, а не одну только
свою болезненно застенчивую страну. Он умер вскоре после издания трактата,
избавясь тем самым от неудобства видеть, как его благодушный и расплывчатый
эквилизм преобразуется (сохраняя при этом название) в злобную и заразную
политическую доктрину, предполагающую силой насадить на его родной земле
духовное равенство с помощью наиболее стандартизированной части ее
обитателей, а именно армии, и под присмотром раздувшегося и опасно
обожествляемого государственного аппарата.
Партию Среднего Человека, метаморфоза эквилизма только-только начиналась, а
разочарованные юнцы, проводившие унылые митинги в дурно пахнущих классах,
только еще нащупывали средства, позволяющие довести до среднего уровня
содержимое человечьих сосудов. В тот год продажный политик был убит
университетским студентом по имени Эмральд (а не Амральд, как неправильно
пишут за рубежом), который выступил на суде с совершенно неуместными стихами
собственного сочинения -- образцом обкусанной невротической риторики,
превозносящим Скотому за то, что он
товарищами распевали теперь эти строки, ставшие потом классикой эквилизма,
на мотив "Ustra mara, donjet domra" (популярная частушка, восхваляющая
пьянительные качества крыжовенного вина). В это же самое время одна
безобразно буржуазная газета печатала серию юмористических картинок,
изображавших жизнь господина и госпожи Этермон (Заурядовых). С
благоприличным юмором и с симпатией, выходящей за рамки приличия, серия
следовала за г-ном Этермоном и его женушкой из гостиной на кухню и из сада в
мансарду через все допустимые к упоминанию стадии их повседневного
существования, которое, несмотря на наличие уютных кресел и разнообразнейших
электрических... как их... ну, в общем, разных штуковин и даже одной вещи в
себе (автомашины), ничем в сущности не отличалось от бытования
неандертальской четы. Г-н Этермон похрапывал, зетом скрючившись, на диване
или, прокравшись на кухню, с эротической алчностью принюхивался к пышущему
жаром тушеному мясу, вполне бессознательно олицетворяя отрицание личного
бессмертия, поскольку весь его габитус был тупиком и ничто в нем не обладало
способностью преодолеть границы смертного существования, да и не заслуживало
того. Никто, впрочем, не смог бы вообразить Этермона умирающим взаправду, --
не только потому, что правила мягкого юмора запрещали показывать его на
смертном одре, но также и потому, что ни одна из деталей обстановки (ни даже
его игра в покер с агентом по страхованию жизни) не предполагала факта
абсолютно неизбежной смерти; так что в одном смысле Этермон, персонифицируя
отрицание бессмертия, сам был бессмертен, а в другом -- не мог питать надежд
опочить в этом мире, чтобы насладиться какой-либо разновидностью жизни в
ином, просто потому, что был лишен элементарных удобств опочивальни в его во
всех иных отношениях отлично распланированном доме. Молодая чета была
счастлива -- в рамках ее герметического существования, -- как и следует быть
счастливой всякой молодой чете: поход в киношку, прибавка к жалованью,
что-нибудь увкуснюсенькое на обед -- жизнь положительно набита этими и на
эти похожими радостями, худшее же, что им выпадало -- это удар традиционным
молотком по традиционному пальцу или ошибка в определении даты рождения
начальника. На рекламных картинках Этермон курил сорт табака, который курят
миллионы, а миллионы ошибаться не могут, и каждый из Этермонов,
предположительно, воображал каждого из иных Этермонов, вплоть до Президента
страны, который как раз тогда сменил унылого и вялого Теодора Последнего,
возвращающимся со службы к (сочным) кулинарным и (постным) супружеским
наслаждениям этермонова дома. Скотома при всей старческой сбивчивости его
"эквилизма" (а даже тот подразумевал какие-то крутые перемены, некоторое
недовольство существующим порядком) с гневливостью ортодоксального анархиста
взирал на то, что он именовал "мелким буржуа"; он был бы (и террорист
Эмральд с ним вместе) ошарашен, узнав, что горстка юнцов поклоняется
эквилизму в образе порожденного карикатуристом г-на Этермона. Впрочем,
Скотома стал жертвой распространенного заблуждения: его "мелкий буржуа"
существовал лишь в виде печатной бирки на пустом картотечном ящике
(иконоборец, подобно большинству представителей этой породы, полностью
полагался на обобщения и был совершенно неспособен, скажем, заметить, какие
в комнате обои, или разумно поговорить с ребенком). В действительности, при
небольшом усердии об Этермонах можно узнать немало удивительных вещей,
делающих их настолько отличными друг от друга, что говорить о существовании
какого-то единообразного Этермона -- помимо эфемерного карикатурного
персонажа -- вообще не представляется возможным. Внезапно преобразясь,
посверкивая сузившимися глазами, г-н Этермон (которого мы только что видели
уныло слонявшимся по дому) запирается в ванной с предметом своих желаний --
предметом, который мы предпочли бы не называть; другой Этермон прямо из
убогой конторы пробирается в тишь огромной библиотеки и млеет над какими-то
старинными картами, о коих он никогда не упоминает дома; третий Этермон
озабоченно обсуждает с женой четвертого будущее ребенка, которого она
умудрилась втайне выносить для него, пока ее муж (ныне вернувшийся в
домашнее кресло) сражался в далеких джунглях, где он, в свой черед, видел
бабочек размером с раскрытый веер и деревья, ночами ритмично пульсирующие от
бесчисленных светляков. Нет, усредненные сосуды вовсе не так просты, как
кажутся; это кувшины, запечатанные магом, и никто -- даже сам заклинатель --
не знает, что в них содержится и в каких количествах.
Падук же намеренно копировал Этермона карикатурного -- в его портняжной
сути. Он носил высокий целлулоидный воротничок, знаменитые круглые резинки
на рукавах сорочки и дорогие ботинки, ибо единственное, чем позволял себе
блеснуть господин Этермон, было сколь возможно удалено от анатомического
центра его существа: блеск ботинок, блеск бриолина. С неохотного согласия
отца верхушке бледно-синего Падукова черепа было дозволено отрастить ровно
такое количество волос, какого хватало для приобретения сходства с
безупречно ухоженной макушкой Этермона, а к слабым запястьям Падука были
пристегнуты этермоновы моющиеся манжеты со звездообразными запонками. Хотя в
последующие года эта мимикрическая адаптация утратила характер сознательной
(тем более, что и серия об Этермоне со временем прекратилась, и сам он
казался совсем нетипичным при взгляде из иных периодов моды), Падук так и не
избавился от ороговевшей поверхностной опрятности; все знали, что он
придерживается воззрений некоего врача, члена партии эквилистов,
утверждавшего, что человек, который содержит свое платье в безупречной
чистоте, может и должен ограничиваться в будние дни омовением только лица,
ушей и ладоней. Во всех его дальнейших похождениях, в любых местах, при
любых обстоятельствах, в мутных задних комнатах пригородных кофеен, в жалких
конторах, где стряпалась та или иная из его настырных газет, в бараках, в
публичных залах, в лесах и горах, где он скрывался с горсткой босых
красноглазых солдат, и во дворце, куда по невероятному капризу местной
истории он попал облеченным властью большей той, какую вкушал когда бы то ни
было любой из правителей нации, Падук по-прежнему сохранял нечто от
покойного господина Этермона, -- род карикатурной угловатости, впечатление,
производимое растрескавшейся и замаранной целлофановой оберткой, сквозь
которую тем не менее можно различить новенькие тисочки для пальцев, кусок
веревки, заржавленный нож и экземпляр чувствительнейшего из человеческих
органов, выдранный вместе с покрытыми сукровицей корнями.
волосами, похожими на парик, маловатый для его обритой головы, сидел между


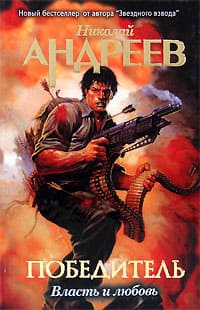


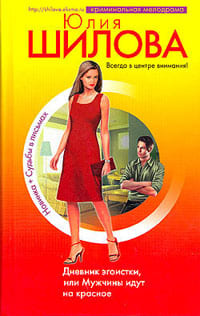
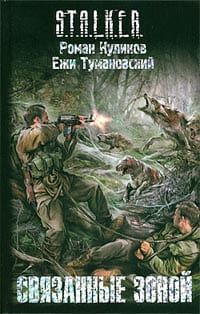 Куликов Роман
Куликов Роман Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав Лукин Евгений
Лукин Евгений Каменистый Артем
Каменистый Артем Бажанов Олег
Бажанов Олег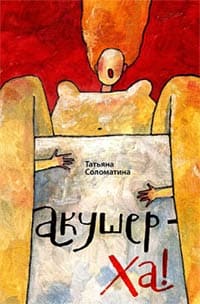 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна