отношении к Николаю Ивановичу что-то изменилось. Раньше он приходил
довольно часто. Ему нравилась и эта непривычная для него большая квартира,
увешанная картинами, нравились и самые картины, хотя не все в них было
понятно, нравилось, как о них рассказывает Николай Иванович.
живописью на очень-то интересовался. Ну, был раза два - в школьные еще
годы - в Третьяковке, потом солдатом водили его на какую-то юбилейную
выставку, вот и все. В картинах нравилось ему больше всего содержание:
Иван Грозный, например, убивающий своего сына, или "Утро стрелецкой казни"
- можно довольно долго стоять и рассматривать каждого стрельца в
отдельности. Нравилась ему в картинах и "похожесть" их, "всамделишность" -
шелк, например, у княжны Таракановой такой, что пальцами хочется пощупать.
Но в общем музеи он не любил - слишком много всего, - в других же местах с
живописью сталкиваться как-то не приходилось.
полки одну из громадных книг в красивом, с золотом, переплете, и, усевшись
рядом на диване, они вдвоем листали ее, иногда целый вечер напролет.
со стены нечто пестрое, в изломанных линиях, она, как всегда громко,
увлекаясь, и неясно начинала объяснять, что это должно значить и почему,
хотя и талантливо, очень даже талантливо, но не годится для нашего
зрителя. Юрочка покорно слушал и ничего не понимал. Когда же начинал
говорить Николай Иванович, ему сразу становилось интересно, хотелось
слушать, спрашивать. Они, например, два вечера просидели над одной только
книгой про одного художника - Иванова, даже про одну его картину. Юрочка
был просто потрясен - бог ты мой, сколько работы, какой труд, всю жизнь
человек отдал ему. И как интересно картина сделана - Христос сам маленький
и где-то далеко-далеко, а спереди много народу, а вот смотришь в первую
очередь на Христа. И про боярыню Морозову тоже очень интересно рассказывал
Николай Иванович. И про "передвижников", взбунтовавшихся сто лет тому
назад, и про французских художников, рисовавших свои картины так, что на
них надо смотреть только издали. Перед Юрочкой открылся новый, совершенно
незнакомый ему мир - мир искусства и в то же время мир напряженной работы,
борьбы, бунтов, очень, оказывается, неспокойный мир.
дом.
тот день, когда менял проводку на кухне, вечером, за чаем, он старался не
смотреть на Николая Ивановича. Бледный, усталый (сейчас он много работал,
заканчивая групповой портрет для выставки), в расстегнутой от жары рубахе,
сквозь открытый ворот которой виднелась белая безволосая грудь, тот сидел
как раз напротив Юрочки, и Юрочке стало вдруг неловко за свои грубые,
поцарапанные, загорелые руки, за свое здоровье, за то, что рядом сидит
Кира Георгиевна и как ни в чем не бывало накладывает в блюдечки варенье, а
потом - он знал, что так будет, - в передней, перед самым его уходом,
прижмется к нему, торопливо откроет дверь и шутливо толкнет его в спину. И
оттого, что случилось именно так, ему стало еще неприятнее, еще стыднее. С
тех пор он перестал заходить.
заходит - это в конце концов неловко, Николай Иванович уже несколько раз
спрашивал о нем, - он прямо сказал, что стыдится Николая Ивановича, что
трудно смотреть ему в глаза.
рассмеявшись:
- старик, ханжа. Вот именно, ханжа. Неужели ты не понимаешь, что мои
отношения с Николаем Ивановичем построены совсем на другом? Я его считаю,
считала и всегда буду считать лучшим человеком на земле, заруби это себе
на носу. Ясно это тебе или нет?
куда-то в сторону:
трудно не считаться.
мог не подумать, что между ними разница тоже в двадцать лет. Кира
Георгиевна, очевидно, тоже это сообразила, потому что вдруг резко и
раздраженно сказала:
своя башка на плечах.
было ему неприятно, и обидно, и жаль старика, и неловко за Киру
Георгиевну, у которой всегда на все есть убедительный ответ.
боку на бок, вставала, открывала, потом закрывала окно, искала снотворное,
опять ложилась, опять ворочалась с боку на бок.
деталь... Дура, болтливая дура...
никогда, весело, с подъемом. И у Николая Ивановича все как будто клеилось,
он был доволен, а это случалось редко. И вообще, эти два месяца Кира
Георгиевна чувствовала себя молодой, полной сил. Ей было весело. Она
перестала обманывать себя, убеждать, что Юркины мускулы ей приятно только
лепить. И разве оттого, что он появился, она изменила свое отношение к
Николаю Ивановичу? Ничуть. С ним ей всегда уютно, и интересно, и приятно,
даже когда он просто сидит за стеной в своем кабинете и она слышит его
покашливание. Вот и сейчас он покашливает. Опять, значит, работает. Когда
он кончает картину, ему даже на ночь трудно с ней расстаться, он
перетаскивает ее из мастерской к себе в кабинет и возится день и ночь...
приоткрыла дверь к Николаю Ивановичу. Он стоял перед картиной, в полосатой
пижаме, заложив руки за спину, и курил. На скрип двери обернулся.
ласково погладил по голове. - Бессонница?
семьдесят лет. У них почему-то всегда семьдесят лет. Морозов таких не было
семьдесят лет, снега - тоже. Все семьдесят лет...
Четвертый час уже.
побежала на кухню.
вспоминали, как Николай Иванович угощал впервые своего агитатора чаем еще
в Алма-Ате, тринадцать лет тому назад. Тринадцать лет... Подумать только -
тринадцать лет, улыбнулся Николай Иванович, тогда у него еще волосы на
голове были, не много, но были, и он старательно зачесывал их из-за левого
уха к правому, а теперь...
галстуке? - Николай Иванович кивал в сторону своей картины, на которой
изображены были три пожилых человека, сидящих за столом. - Сейчас он
академик, величина, толстые книги пишет... А ведь когда я писал его в
первый раз, был златокудрым красавцем, в кубанке, в красных галифе, с
таким вот маузером на боку. С самим Махно, говорят, самогон пил. А теперь
- валидольчик, курить бросил, вредно...
Дон, о том, как сделал в один получасовой сеанс портрет Щорса и тот,
увидев его, несколько удивился, не обнаружив ни глаз, ни носа, но тем не
менее портрет взял и даже поблагодарил, как ездил в Крым, как познакомился
с Вересаевым, как поехал потом в Москву и пробился с двумя ребятами к
Луначарскому, которые внимательно выслушал их предложение расписать стены
Кремля фресками на тему "От Спартака до Ленина", а потом, устало
улыбнувшись, сказал: "А может, товарищи, пообедаем, вы, наверное, ничего
не ели?" - и они остались обедать и о фресках больше уже не заикались.
рассказы и, как всегда, поражалась тому, как много на своем веку видел
Николай Иванович и как мало об этом рассказывает. Только так, случайно,
"под настроение", заговорит и тогда уже может говорить всю ночь,
неторопливо, тихо, прикуривая папиросу от папиросы, и слушать его можно
без конца, вот так вот, в кресле, поджав колени.
сейчас заливались вовсю, - загромыхали на улице грузовики. Николай
Иванович зевнул, встал, подошел к картине.
вспоминаем. - Он обнял ее за плечи и поцеловал в волосы. - А хочешь, я
твой портрет сделаю? Просто так, для себя. И повесим его в столовой рядом
с Кончаловским. Идет?
весь рост, в бальном платье и с бриллиантами. Иначе не согласна.
хорошо посидели..." Кира Георгиевна вытянулась на своей кровати, натянула
на голову простыню (привычка с детства), вздохнула и закрыла глаза. После
этого тихого, уютного ночного чаепития она чувствовала себя какой-то
очищенной, успокоенной. А через несколько часов произошло событие, от
которого вся ее, в общем, налаженная, как она считала, спокойная жизнь
полетела вверх тормашками.





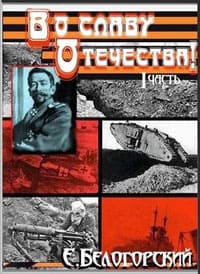
 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Ильин Андрей
Ильин Андрей Василенко Иван
Василенко Иван Марко Джон
Марко Джон Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Бажанов Олег
Бажанов Олег