что "супруг" и есть книжный вор. Ведь у него же на лице это три дня было
написано. Врешь, не уйдешь! Я бросаю пачку журналов на стол миссис Смайл и,
провожаемая ее, ставшей вдруг удивленной улыбкой, выскакиваю из библиотеки.
радостное. Я иду "шпиком" сзади. Подхожу совсем близко. Внимательно,
насколько это возможно, осматриваю полупрозрачный пакет. Так и есть: книга.
Большая. Кажется, именно такую я видела на стеллаже, какой-то справочник ,
видимо детский, тематический, хорошо иллюстрированный.
профессионально занимаюсь "газетным" криминалом, но ни разу в жизни не могла
смоделировать психологию воришки. Украсть у какого-то ребенка, чтобы отдать
своему, и умиляться при этом сознанием того, как хорошо сделал, обеспечил
чадо необходимым, и сердце сочится гордостью и умилением. Нет, ничего не
получается. Вор - аномалия, выродок. А в шкуру выродка я, при всем желании,
влезть не смогу. В чем-нибудь да ошибусь. Одно понятно: твое место в клетке.
Но что я реально могу сделать: заломить тебе руку и отвести в милицию или
обратно в библиотеку? При этом следить, чтобы ты, как опытный вор-карманник,
не избавился от пакета. Смешно. Ты останавливаешь такси! Это катастрофа.
Сейчас сядешь в эту грязную "Волгу", и прощай мои мстительные мечты! Хотя бы
одно доброе дело из этой неудачной истории я должна выжать - хотя бы вернуть
в библиотеку украденную книгу.
драгоценные чресла на мягкое сиденье. В это время я обеими руками,
маленькими, но крепкими (ты должен помнить!), хватаюсь за твой пакет и со
звериной решительностью рву его на себя...
пластмассовые ручки от пакета.
вернуть нечестно добытое. Потом я решила использовать твою жадность в своих
целях. Сначала притворялась немощной, бежала прихрамывая. Мне взбрело в
голову таким образом, по примеру какой-то птицы, отвлекающей хищника от
гнезда с птенцами, заманить тебя куда-нибудь поближе к милиции или
библиотеке. Но потом я обнаружила, что бегу не известно куда. Просто бегу и
все. Я элементарно заблудилась, не зная города, района.
Зачем-то сняла рваный пакет с этой большой книги и, торопливо смяв, бросила
его тебе в лицо. Ты завалил меня на землю и стал вырывать свой нечестно
добытый талмуд. Я умею кусаться, - ты не знал об этом?!... Тогда ты высоко
размахнулся и ударил меня своим огромным кулаком в грудь. Ух, как хорошо!
Ну, давай еще! Ты не просто бьешь - ты выбиваешь себя из меня... Но... мне
больно. Все-таки ты подонок... Ты как будто услышал, ударил еще. Надавил
коленкой на мой беззащитный живот. Я задохнулась, у меня потемнело в глазах.
Сейчас изо рта полезут кишки. Еще один удар, и я потеряю сознание, а потом,
может быть, умру.
в своих руках, запрокинутых за мою дурную голову. В этой самой голове
мелькают, разумеется, глупости: книга - источник знаний... знание - сила.
Быстрыми толчками, синхронными со стуками крови во всем организме, я
напитываюсь мыслью, которая удерживает меня в рассудке: знание - сила!...
Да, черт возьми: с радостью убеждаюсь, что книга еще не выпала из рук,
закинутых за голову, собираю последнюю энергию и хлопаю этим гроссбухом,
источником знаний, по твоей красивой голове. Затем еще. Еще! Хочу еще, но
сил на большее не хватает.
выпрямляешь торс, отпускаешь от меня свои руки, как хирург от больного, и
также медленно, как бы нехотя, берешься за свою красивую голову. Наверное,
там сейчас колокольный звон и поют ангелы. Сидящий на коленках и
покачивающийся, ты напоминаешь йога. А вместе мы напоминаем что-то из
"Кама-сутры". Нокдаун.
втягивать в себя воздух я уже могу, хоть это и невыносимо больно. Кроме
живота, ты смял и мою грудную клетку и что-то там под ней, кажется, здорово
отбил. К нам бегут какие-то люди. Ты силишься встать, держась ладонями за
стену. У тебя поза, как будто выполняешь команду: "руки вверх, лицом к
стене". Очень удобная поза, грех не воспользоваться. Это будет последним
аккордом в моей мстительной симфонии. Я захожу сзади, прицеливаюсь и, на
глазах у свидетелей, изо всех сил пинаю тебя в промежность. Ты охаешь и
резко садишься на корточки. Под удивленные взгляды зрителей я гордо вынимаю
из нагрудного кармана расческу, которую ты, оказывается, вывел из строя, и
ее обломком расчесываю растрепавшиеся волосы. Фанфары. Занавес. Поклонников
прошу не беспокоить меня в уборной.
гражданина, на которого я из хулиганских побуждений набросилась, причинив
моральный ущерб и незначительные телесные повреждения. Я не отпиралась - мне
было безразлично. Свидетелями на суде были двое случайных прохожих, красочно
описавшими мой прицельный "заключительный аккорд" и хладнокровное
причесывание; миссис Смайл и заведующая библиотекой, которые характеризовали
меня как аккуратного и добросовестного читателя, наивного борца с книжными
ворами; и муж мой Виталик, который просил граждан судей отдать меня на
поруки с непременной материальной компенсацией со стороны семьи ответчицы в
пользу потерпевшего.
криминальную хронику в газете. А муж, вообще, милиционер. В связи с этим
судья смотрел на меня на всем протяжении процесса не совсем бесстрастно,
скажем так. В его взгляде была смесь удивления, сочувствия и укора. Даже
голову склонил на бок, как скрипач, так и смотрел на протяжении всего
процесса.
всякой материальной компенсации. Единственным его условием было следующее: я
должна извиниться. Прямо тут же, на суде: громко и "с выражением". Я встала
и сказала, глядя на него, от чистого сердца: я все тебе прощаю.
Тогда я встала опять и повторила: Я. Тебя. Прощаю. Ты мне безразличен!...
смог выкрикнуть, почти провизжал: я попрошу вас не тыкать!...
пользуясь разрешенным прощальным поцелуем, шепнул: зачем ты это сделала? Я
успела сказать ему, на горячем выдохе, касаясь губами мочки уха, зная, что
ему это приятно: этот тип похож на моего первого. Виталик, мой дорогой
человек, мне поверил. Наверное, впервые. А мне впервые за много месяцев было
просто хорошо. Я чувствовала себя революционеркой: только они идут в камеру
с улыбкой. Все позади.
Просто устроился в местную гостиницу и стал ждать срока моей "отсидки". Он
всегда такой: мягкий, принципиальный и упрямый. Его только недавно стали
уважать бандюги нашего города. Раньше они относились к нему
пренебрежительно, как к пансионной девице, надевшей милицейскую форму.
Поэтому неизменно проигрывали. А сейчас уважают, но все равно проигрывают.
выдержал, примчался. Виталик потом рассказывал, что его лысина сверкала и в
отделении милиции, и в редакции местной газеты, и в мэрии... Я ему,
редактору, за это образ придумала: лысый протектор. Что, конечно,
несправедливо - добрый мужик. Да и как мой защитник - справился, добился
"амнистии". Еще бы, работы невпроворот, а я тут прохлаждаюсь за свой счет.
Общаюсь с дебоширками и хулиганками - милейшие, оказывается, девы.
общества. Теперь на все посмотрела другими глазами. Понять, значит простить.
Уверена, мне это очень пригодится. Может быть, что касается профессии, как
раз таки этих присуженных суток мне и не хватало, чтобы достичь существенных
- не халтурных, настоящих - вершин мастерства? Я даже поставила себе цель:
серия очерков "оттуда". Вернее, "отсюда". Возможно, в результате получится
книга. Часто ловлю себя на мысли, что впервые за много месяцев мысли мои
вновь приобретают стройность и творческое направление.)
тротуары, дышу свежим воздухом, сочиняю стихи под "вжик" метлы и шорох
желтых листьев. Тарам-тарам... и жутко добрых мыслей... Не рифмуется и не
надо. Зато появился румянец на щеках. Сходят синяки, перестала ныть изрядно
помятая грудная клетка и все, что в ней последние месяцы болело.
библиотеку. Букет миссис Смайл отдавал Виталик, так я захотела. Я увидела
то, что и ожидала, согласно всем законам жанровой справедливости: миссис
Смайл улыбалась, но в этот раз выражение глаз и лица соответствовали друг
другу. Это была не гримаса природы, это была настоящая улыбка. Неизвестно,
что произошло, какая там релаксация, следствие ли положительных эмоций, но
вдруг больные нервы расслабились и перестали, пусть ненадолго, корежить
лицо. Потом, когда мы уже были у двери, мне показалось, что она светло, без
страдания, улыбнулась. Я "сфотографировала", запечатлела ее в памяти такой,
закрыла глаза и отвернулась... Прощайте, миссис Смайл!
Ч У Б Ч И К
В семье у них, кроме Пашки, бегало еще четверо сынов. И все они, сколько я
их помнил, всегда были стриженными налысо. Этим они очень походили друг на
друга, их можно было перепутать с затылков. Хотя, все были, разумеется,
разного возраста и характера. Я всегда подозревал, что причина их затылочной
универсальности в том, что отец Пашки, дядя Володя, родился, как он сам






 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Круз Андрей
Круз Андрей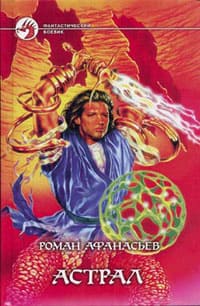 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Свержин Владимир
Свержин Владимир Прозоров Александр
Прозоров Александр Эриксон Стивен
Эриксон Стивен