еще потерпеть надо.
печки (утром солдаты протопили: в гимназии было сыровато). - Все тянется,
тянется. Слушай, у тебя никогда не было ощущения, что все может рухнуть? Уже
этой осенью?
вместе у Хмельницкого и отправимся к Мадам. Даккор?
дела наши в общем-то хороши, думаю, если этой осенью товарищи вдруг разовьют
наступление на своем южном фронте, оно может быть успешным. Чисто
теоретически. Только не надо этого больше ни с кем обсуждать, Николай Палыч.
Неадекватные положению на фронте пораженческие настроения.
x x x
они сбудутся... Что тогда? Зачем тогда все? Зачем эти безумные шесть лет
крови и боли? Зачем была нужна растаявшая как туман та, совершенно другая
жизнь в совершенно другой стране? Жизнь, с которой меня связывают осенние
листья между страниц.
выбрался из своей глухомани совершенно без дела, просто убегая от осенней
тоски. Я шел по бульвару и увидел ее. Нет, не ее. Сначала узконосый черный
башмачок на желтой листве, потом желтый березовый лист между страниц книги.
Она сидела на скамейке в городском саду и читала. Я подумал. Что у этой
девушки та же привычка, что у моей матери. Но нет. Она просто где-то
потеряла кожаную закладку и мимолетно заложила страницу листком. Все это я
узнал позже.
мое внимание. Я поднял глаза, и мы встретились взглядами. Мне казалось, что
мы смотрим друг на друга долго, неприлично долго. Хотя прошли, верно, лишь
какие-то секунды. Но мы оба изменили себе, своим привычкам и воспитанию: мы
познакомились. На улице. И нас никто не представлял друг другу. Мы сами
сделали этот шаг.
желтым дорожке. И говорили ни о чем. О чем можно было тогда говорить? Не
было войны, не было революций, голода, банд, "столыпинов" с солдатами,
трехлинеек, агитаторов, трупной вони. О чем тогда можно было говорить?
Только ни о чем. Может быть, о погоде.
листья в книги. Я узнал, что Даша приехала сюда навестить дядюшку и вскоре
отправится обратно в Питер. Что ей здесь "скушно". Она произнесла это слово
совершенно по-московски: "скушно".
Петербург.
инженер, фамилии которого я, к стыду своему, не знал.
событий. Был Распутин, столичные сплетни, модные революционные кружки, куда
толпами хаживала молодежь, в основном, студенты. Это была обычная жизнь.
Последний год.
овалов лица. Я приезжал в уезд теперь каждый день. К ней. И ее не
приходилось уговаривать проводить со мной время. Это давало мне надежду, и
сладко трепетало сердце в предощущении долгой и счастливой жизни ждущей
меня, ее, всех нас впереди.
шутил, с ужасом ожидая, что она сочтет шутку глупой и не засмеется. Но она
смеялась. И я ликовал.
Зайдя в лодку, снятую напрокат за рубль на целые сутки, балансируя, я подал
ей руку. И взял, ощущая своими пальцами ее тонкие, теплые пальцы и ладонь. Я
хотел, чтобы это мгновение тянулось вечность, но, боясь, что она поймет это,
тотчас же отнял руку, когда она ступила на нос лодки.
журчании голоса. Я смотрел на ее маленькую ножку, стоящую на деревянной
решетке, под которой на дне лодки плескалась вода.
Может, я просто ностальгирую по тому миру, что уже не вернется? И придумал
себе, что любил ее тогда? А на самом деле было лишь кружение головы от
предчувствия легкого провинциального романа, бегство от скуки? Или я сейчас
себя утешаю, что не было любви, что я ее придумал? Как там у нашего Чехова?
Дама без собачки. Дама в осенних листьях... Отсюда и не разглядеть уже.
Вернее будет, что я люблю ее как последний яркий алмаз из времени До Конца
Света. Люблю все больше, по мере погружения в Армагеддон. Она - маяк,
оставленный мною в порту навсегда. Только светит этот маяк не угасая
постепенно, а, в отличие от обычного, будет светить мне все ярче и ярче. До
тех пор, покуда я жив.
Даши, слушая звук ее голоса сливавшийся с тихим плеском воды о лодочные
борта, я чуть ли не физически ощущал ее тело под строгим коричневым платьем,
все его изгибы и впадинки. Она была удивительной и гибкой.
ни одной.
городок уже давно спал, когда наши губы вдруг соприкоснулись... Еще секунды
назад ничего не было. И вдруг - словно ветер пролетел - мы задохнулись в
мягком поцелуе.
Хотела что-то сказать, но я залил ей губы новой амфорой нектара, и пил ее
сам, кружась над чернеющим садом, под бесконечным звездным куполом. Куском
сахара я без остатка растворялся в горячем чае ее поцелуя.
x x x
типографии, но пока все было тщетно. Никаких зацепок. Взятый три дня назад
молодой парень - расклейщик листовок молчал, несмотря на все старания
Таранского и двух его подручных.
мстительной радостью понял, что Таранский потерпит здесь сокрушительное
фиаско.
ходил по коридорам бледный, ни на кого не смотрел, левый глаз его изредка
подергивался. Офицеры старались не заговаривать с ним, лишь некоторые
спускались в подвал, желая своими глазами взглянуть на удивительного
человека. Столько у Таранского не выдерживал никто. Обычно начинали говорить
часа через два - самые упорные. И процентов на восемьдесят несли ахинею,
бездарно оговаривая и себя, и окружение. Контрразведчики замучивались
проверять эти самооговоры. Невозможно было посадить в подвал полгорода.
Никто не видел содержимого его потертого докторского саквояжа. Не потому что
не хотели - любопытствующих как раз хватало, - а потому, что сам Таранский
никогда и никому не показывал свои инструменты. Видели их только двое
подручных Таранского - одетые в солдатскую форму гориллы.
злорадствовали.
полувзвод при Управлении контрразведки фронта, набирая контингент по
тюрьмам. Капитан Тарасов по секрету сообщил, что Таранский специально
выискивает среди уголовных преступников убийц и насильников, предварительно
знакомясь с делами осужденных. Офицеры управления дивились, как Таранскому
удалось получать разрешение на формирование такой отпетой команды. Он даже
получал командировочные предписания в екатеринодарскую и ростовскую тюрьмы.
Видимо. Сыграло роль то, что до сих пор приговоры о расстрелах и повешениях
должны были выполнять случайные офицеры. Иногда бывали отказы. Теперь
смертельный конвейер целиком мог взять на себя ротмистр Таранский с
командой...
узел бродил как сусло. Агенты доносили о большой заинтересованности красного
подполья к дороге, о постоянно появляющихся там листовках и агитаторах.
Агитаторов ловили, но на след верхушки подполья выйти не удавалось.
Проваленные явки оказывались пустыми, люди исчезали. Настроение среди
рабочих депо было весьма неопределенным. Показательный расстрел двух
саботажников из ремонтного цеха ничего не дал. Ковалев был против расстрела,
считая, что этим военные власти только восстановят против себя рабочих. Но
до зарезу была необходима бесперебойная работа, срывались поставки, сутками
стояли на запасных путях эшелоны с ранеными. Пройдя раз мимо такого эшелона,


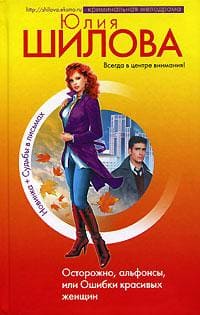



 Шилова Юлия
Шилова Юлия Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Прозоров Александр
Прозоров Александр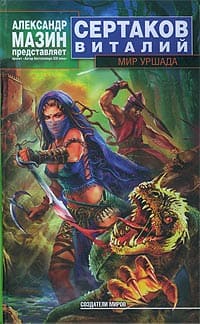 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий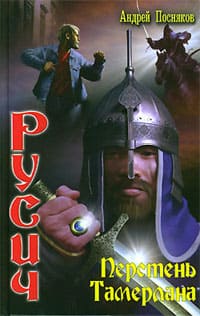 Посняков Андрей
Посняков Андрей