принялся ретиво защищать собрание.
- Но я же имел право получить квартиру... Так мечтал о своем угле,
столько времени и сил отдал дому... - с отчаянием пробормотал Гертнер.
- Чепуха! - резко остановил я Гертнера. - Да и нечего, Павел
Александрович, попусту говорить. Если вы думали только о собственном
благополучии, так шли бы к частнику...
- Ах, так! - злобно отозвался Гертнер и свернул от меня в темный
переулок, разрывавший ленту неровного асфальтового тротуара.
Я посмотрел на линию домовых фонарей, слабо мерцавших над глухими
воротами, и торопливые шаги удалявшегося Гертнера пробудили во мне жалость.
Я крикнул ему на прощанье:
- Эй, Павел Александрович, не заблудись!
Дома меня ждала Анна Николаевна, хитро щурившая покрасневшие глаза.
- Скоро будем новоселье справлять? - спросила старуха.
Я вляпался.
- Видишь ли, в следующем доме квартиры будут лучше, и нам следует
подождать, - соврал я жене.
Но сердитый ответ разоблачил мою отговорку.
- Опять врешь! - заворчала она. - Ведь, пока ты дотащился домой, ко мне
ваша Голосовская успела зайти... Слышали, слышали, как от квартиры изволил
отказаться... Эх ты, благодетель!
- Не бубни! - полушутя-полусерьезно цыкнул я на старуху. - Через год мы
выстроим еще один дом.
Старуха не перестала браниться: она верила в постройку нового дома, но
сильно сомневалась в моей охоте получить новую квартиру.
x x x
А теперь готов реветь я.
После нашей встречи с сыном я работал особенно бодро. На следующий день
в типографии развернул газету и спокойно, точно этого ожидал - а ведь я не
ожидал этого, не мог ожидать, - прочел извещение о смерти Ивана
Владимировича Морозова.
Через полчаса после нашей встречи Иван попал под трамвай.
Я не пошел на похороны. Там было место оркестру, делегации рабочих,
товарищам по работе, но не мне - его отцу и его другу. Мне он был нужен
живой.
Стороною я слышал: Нина Борисовна бегает по Москве и кричит, что Иван
кончил жизнь самоубийством. Многие склонны этому верить. Видевшие его в
последние дни покачивают головами, соболезнуют и жалеют молодого и
ответственного, бросившегося под трамвай.
Ложь! Под трамвай он попал случайно. Это говорю я, а старик Морозов
никогда не врет. Иван никогда бы не лишил себя жизни. Мы не из таких.
x x x
Мальчишки победили меня.
У нас в типографии комсомольцы ретивы не в меру. Нет ни одного
человеческого чувства, которое они не постарались бы переделать по-своему.
Ладно, веди широкую общественную работу, зови нас участвовать в шахматном
турнире, заставляй играть на балалайке в музыкальном кружке, но зачем еще
трогать нашего бога? Оставьте его в покое. Бога нет? Нет. Прекрасно. Так
чего же вы о нем столько кричите?
Комсомольцы в типографии организовали ячейку безбожников. Пожалуйста. Я
не могу помешать им делать глупости. Но уж сам принимать в них участия не
буду. И вот... Однако, старик, по порядку, по порядку.
Какой хитрец мой добрый, старый Тит Ливии. Я догадывался, что он
неспроста переменил имя. Правильно. Мошенник переменил имя неспроста. Да и
кто бы стал его менять так, за здорово живешь, на шестом десятке!
Несколько дней назад мы встретились с ним в обычное воскресенье. Пришли
мы в пивную почти одновременно. Не успел я захлопнуть за собой дверь, как
увидел рослую дьяконову фигуру, медленно раскачивающуюся в клубах сизого
табачного дыма.
- Ливий! - воскликнул я, привлекая к себе общее внимание. - Друг!
Дьякон повернул ко мне рассерженное лицо и прокричал:
- Сукин ты сын! Довольно тебе надо мной насмехаться. Я даже тебе не
Ливии, а Иван.
- Нет, дорогой, - настойчиво возразил я ему, проталкиваясь к свободному
столику, поближе к эстраде, - Ивана у меня нет. Его сожгли в крематории. Так
и знай: второй Иван мне не нужен, я его не приму.
- Можешь не принимать, - пренебрежительно заметил дьякон, грозя
разрушить стул многопудовой тяжестью. - Но Иванов на свете много, и я один
из них.
Черт возьми! Ведь он прав. Иванов на свете много, и больное кипенье
моего сердца начало остывать.
- Ин Дмитриевич, - все-таки комкая его настоящее имя, пожаловался я
своему Ливию, - у меня умер сын.
Конечно, дьякон ответил традиционной фразой:
- Все там будем.
Я отрицательно покачал головой:
- Там - нет, и здесь - нет.
Дьякон хитро подмигнул, он был со мною согласен: никакого "там" нет.
- И, главное, Ливии, - забывая его просьбу, продолжал жаловаться я, -
меня раздражают люди. Они смеют говорить, что мой Иван ушел из жизни по
своей воле. Здоровый, сильный человек ушел из жизни по доброй воле! Я же
знаю, как он любил жизнь!
- Знаешь? - серьезно спросил дьякон, внимательно смотря мне в глаз.
Я не отвел своих глаз.
- На чужие слова плюнь! - ласково доконал дьякон мою жалобу и, вспомнив
что-то свое, взмахнул рукой и сорвал с головы кепку.
Я не верил своим глазам: голова Ливия блестела, точно один из многих
бильярдных шаров, так часто загоняемых дьяконом в лузы.
- Голубчик, - скрывая свое удивление, сказал я ему, - после всех этих
историй с переменой имени и бритьем головы я серьезно начинаю думать, что
голова твоя действительно превратилась в бильярдный шар.
Дьякон захохотал, отрицательно покачивая головой.
- Так что же? - допытывался я. - Или православные иерархи перешли в
католичество? Было бы любопытно посмотреть, как наши попы покажут церковным
кликушам свежие тонзуры. Я думаю, кликуши поднимут бунт. Где же они будут
тогда искать вшей?
Дьякон смеялся, но, заметив мое усиливающееся раздражение, вдруг
нахмурился и с легкой грустью протянул мне свою пятерню.
- Прощай! - сказал дьякон, не поднимаясь с места.
- Хорошо, - недовольно ответил я, сердясь на упрямо скрывающего что-то
от меня дьякона. - Надеюсь, в следующее воскресенье ты будешь откровеннее.
- Следующего воскресенья не будет, - совсем грустно пробурчал Тит
Ливии.
- Дьякон, голубчик, ты совсем одурел. Честное слово, ты совсем одурел.
Следующее воскресенье будет через шесть дней, и так будет повторяться, когда
во всем мире будет социализм, когда косточки наши пойдут на удобрение
хлебородных полей.
- Но у нас с тобой следующего воскресенья не будет, - упрямо возразил
дьякон.
- Ливий, не говори чепухи, - внушительно приказал я ему. - Это
невозможно. С тобой творится неладное. Мы не заразились холерой, нас не
приговорили к расстрелу, и мы слишком маленькие люди, чтобы белогвардейцы
пытались бросить в нас бомбу. Следующее воскресенье будет и у меня и у тебя.
Дьякон глубокомысленно согласился:
- Да, следующее воскресенье будет и у меня и у тебя, но его не будет у
нас двоих вместе.
Я не понимал ничего. Кто-нибудь из нас рехнулся. В чем дело? О чем он
говорит? Нет, я отказываюсь догадываться.
А дьякон еще заунывнее добавил:
- Ты потерял приятеля. Ты видишь меня в последний раз.
Ах, так вот в чем дело. Мне стало ясным все. Дьякон на меня за что-то
обиделся, обиделся серьезно, и решил больше не встречаться со мной. Пустяки,
я сейчас с ним помирюсь, даже извинюсь, если это будет нужно, и снова все
обойдется.
Но дьякон предупредил меня.
- Завтра я уезжаю в Нарымский край, - раздельно произнес Ливии.
Ага, так вот оно в чем дело! Я всегда говорил - церковь не доводит
людей до добра.
- Дурак! - не мог я не обругать дьякона. - Зачем ты ввязался в
политику? Чем была плоха для тебя наша власть? Предоставь контрреволюцию
идиотам и негодяям.
Нет, я не могу описать выражения дьяконовских глаз - мы оба воззрились
друг на друга, как влюбленные лягушки.
- Что с тобой? - протянул опешивший Ливии.
- Дурак, дурак! - продолжал я усовещать дьякона. - Рассказал бы мне про
свои политические шашни, и я сумел бы вызволить тебя из беды. Честное слово,
никуда бы ты не поехал. Нет, нет, я не зарекаюсь! Пожалуй, я сообщил бы о
заговоре куда следует. Но для тебя я потребовал бы пощады. А теперь пеняй на
себя. Тебя высылают, и поделом.
Дьякон понял. Господи, как он зарычал, заблеял, завизжал! Такую
какофонию я слышал впервые в жизни. Я уверен: будь в пивной немного
попросторнее, дьякон начал бы кататься по полу. Еще немного, и с ним
начались бы корчи.
Я разозлился опять: человека ссылают в Нарым, а он хохочет. Вероятно,






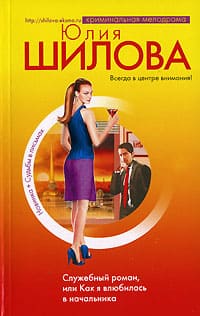 Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Корнев Павел
Корнев Павел Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Пехов Алексей
Пехов Алексей Прозоров Александр
Прозоров Александр