собирались здесь, чтобы высказать свое отношение к вопросу о профсоюзах. Но,
сказать по правде, это был на съезде не главный вопрос. Десятый съезд, -
это, товарищи, такой съезд...
Он медленно пересказывал Ленина.
Ленин был превосходно осведомлен о том, что происходит в деревне.
Громадная бескормица, падеж скота, разорение крестьянского хозяйства... Все,
что происходило в стране, нуждалось в критике и перестройке...
Подробнее всего Шабунин говорил о замене разверстки продовольственным
налогом.
Речь шла о величайшей перестройке экономической жизни народа. Кое-кому
могло показаться, что партия отступает, а, по сути, это был стратегический
план, обеспечивавший дальнейшее наступление социализма. Армии отступают
иногда вследствие поражения, но бывает и так, что армия отступает и не
потерпев поражения, - чтобы не оторваться от тыла, и тогда приходится свое
продвижение задержать.
- Слышать заключительную речь товарища Ленина мне не пришлось, -
закончил Шабунин. - Триста делегатов съезда были посланы в Кронштадт на
подавление белогвардейского мятежа, в их числе был и я.
Вот и все, что сказал о себе Шабунин. Он не счел нужным рассказать, как
коммунисты шли по льду Финского залива на штурм крепости, как свистели
вокруг пули, как в штыковом бою ворвался он вместе с бойцами 7-й армии в
мятежный город. О себе он не говорил.
Делегат Десятого съезда, он голосовал за Ленина на льду Финского
залива.
- А что вы скажете, Степан Кузьмич? - спросил Слава, выходя вместе с
Быстровым из зала.
- Вожжи, - коротко и непонятно ответил тот.
- Что - вожжи? - с недоумением спросил Слава.
- Вожжи выпускаем из рук, - сказал Быстров.
И вдруг у двери Слава увидел Вейнберга. Оказывается, он присутствовал
на собрании. Маленький, насупленный и какой-то всклокоченный, сидел на
задней скамейке и будто не собирался вставать.
Мимо прошел Шабунин, и Слава уловил взгляд Вейнберга, и было в этом
взгляде столько пронзительной ненависти, что заболей Шабунин, Слава не
посоветовал бы ему обращаться к Вейнбергу за пилюлями или порошками.
12
Ох уж этот самосад! Дымят, дымят... Точно паровозы. Ну какие в деревне
паровозы? Дым над каждым, как из самоварной трубы...
- Попробуй моего...
- А твой крепче?
Коммунистов Быстров собрал в исполкоме:
- Будем гадать да прикидывать...
Солнце прогревает землю, весна набирает силу.
Всем понятно: разговор о севе, пора сеять, не пройдет и недели, как
нужно выходить в поле.
Данилочкин тяжело вздыхает.
- А как сеяться? - спрашивает Быстров.
Голодновато живут в волости. Хлеб пекут пополам с лебедой. Горький, но
все же хлеб. У кого побольше достаток, кто сумел похитрее упрятать зерно, те
замешивают в тесто картошку, такой хлеб много вкуснее. Есть, конечно, и
такие, кто ест чистый хлебушек, но таких немного, и тот чистый хлеб едят
украдкой, чтобы не заметили соседи.
Нагрянет власть, и тот же Быстров, тот же Данилочкин начнут шарить по
погребам, по чердакам, по бабьим даже сундукам: где рожь? где рожь? Мужик
крестится, божится: да нигде, да нисколько бабы в плач, в крик, а найдется
рожь - креста на вас нету, что дети исть будут?
Быстров был безжалостен, с налета появлялся в деревнях, перелопачивал и
полову и солому, находил зерно там, куда никто, кроме него, и не подумал бы
заглянуть, все сметал подчистую и гнал подводы на мельницу или на станцию.
Он хорошо понимал, как важно поддержать рабочий класс... Диктатура
пролетариата! Продотряды редко появлялись в Успенской волости, и в
Малоархангельске, и в Орле знали, что не из страха перед начальством
выметает Быстров хлеб из своих деревень, что движет им идея, хоть и
ненавистен он становится мужикам.
Однако незадолго до весны Быстров отступил от своих правил, и не ради
измены делу, которому служил, а именно ради дела недальновидным начальникам
казалось - надо накормить город сегодня, а завтра хоть трава не расти, но
Быстров понимал: хлеб нужен и сегодня, и завтра, и послезавтра, нас не
будет, а хлеб все равно будет нужен.
Вот он и пошел на нарушение: зерно искал и находил, но никуда не
отправлял, а ссыпал в каменные амбары, что покрепче, запирал не на один
замок, походя пугая председателей сельсоветов: "Бережешь не хлеб - свою
жизнь, не убережешь, едрена палка, прощайся с семьей, осиротишь детей, в
трибунал - и к стенке..."
И где бы ни был ссыпан хлеб, нигде не украли ни зернышка, мужики
понимали: не для себя прячет Степан Кузьмич хлеб, если в город не
отправляет, значит, задумался о севе...
- Надо сеять, - властно сказал Быстров. - Кулаки как-нибудь вывернутся,
они похитрее нас, где-нибудь в логах так схоронили зерно, что ни одному
дьяволу не найти. Они его, не завозя домой, прямо из своих похоронок на
пашню высеют, а вот беднота подобралась, поели все, что могли, им придется
помочь.
- Да ведь на сельсоветы плоха надежда, - усмехнулся Данилочкин. - Зерно
они до поры до времени схоронили, а как собьют замки да примутся делить,
уплывет половина на сторону.
- А я о чем? - Быстров согласно кивнул. - По всем деревням разошлем
наших партийных товарищей. Пошлем уполномоченных. Вот списочек... - достал
из своей коленкоровой папки разлинованный листок, на котором рукой Дмитрия
Фомича написаны фамилии. - Приехать, проверить списки домохозяев, проверить,
у кого какой надел собрать комбед, составить списки бедноты послушать
народ, прикинуть, кому сколько, да предупредить, чтобы не вздумали в
квашню...
Он стал называть фамилии уполномоченных:
- Данилочкин - Каменка, Еремеев - Журавец...
- А поменять? - перебил Данилочкин. - Еремеева в Каменку, а меня в
Журавец.
- Почему это?
- Так я ж сам из Журавца, всех знаю, там меня никто не проведет.
- Да, может, ты и честно распределишь, а все равно скажут, кусу больше,
а шабру меньше...
Быстров заботливо распределил уполномоченных, где поершистей народ,
туда и уполномоченных погорластей, а добреньких и мягоньких никуда не
послал.
Остались лишь Корсунское с Рогозином, все догадывались, - хотя сам он
оттуда, - хочет Степан Кузьмич оставить Корсунское за собой, себе доверяет,
для него не существует ни родства, ни кумовства.
- В Корсунское пошлем Ознобишина.
Еремеев даже приподнялся со скамейки.
- Да он еще...
Не договорил - ребенок, но все поняли.
- Да вы что, Степан Кузьмич, - укоризненно сказал Данилочкин. - Знаете,
какие там скандальные мужики? Его вокруг пальца обведут...
- Пора привыкать к государственной деятельности, - отрезал Быстров. -
Учись плавать на глубоком месте.
И никто не спросил лишь самого Ознобишина, по силам ли ему такое
задание, а сам он об этом не задумывался, раз посылают, значит, обязан
выполнить.
- Да, вот что еще, - бросил между прочим Быстров. - Дайте ему
какое-либо оружие, мало ли что...
Так Ознобишин стал уполномоченным волисполкома по проведению весенней
посевной кампании в Корсунском.
При выходе его нагнал Еремеев, протянул револьвер.
- Возьми, пригодится.
- Я не умею стрелять.
- Ну, попужаешь.
- Ленин говорит, в деревне надо действовать убеждением.
И не взял.
Приехал в Корсунское под вечер. Все тонуло в серых сумерках. Туман как
осенью после дождя. И перед Ознобишиным все в тумане. Не так-то просто
разделить семена, так раздать, чтоб комар носу не подточил, жалоб все равно
будет много.
Слава и устал, и намерзся за дорогу. Не хотелось браться за дела с
вечера, хорошо бы выспаться сначала.
Подводу отпустил. Без труда нашел избу Жильцова, помнил ее по прошлым
наездам, - хитроватый председатель сельсовета в Корсунском, и начальству
угодит, и с мужиками не рассорится.
В избе парно. Жильцов, босой, сидит у печи, жена Кильцова строчит на
швейной машинке.
- Товарищу Ознобишину!
- К вам, Савелий Тихонович.
- По части молодежи аль в школу?
Чтоб не поднимать суеты заранее, Слава уклонился от ответа.
- Дела завтра с утра, а сегодня квартиру бы дня на три.
- Сей минут.
Обулся в валенки, к ночи еще подмораживало, повел Славу по селу.
- К Сапоговым, что ли? Нет, лучше к Васютиным.
Кирпичный дом под железом на четыре окна.


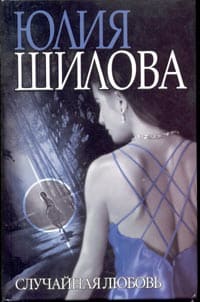



 Маркеев Олег
Маркеев Олег Бажанов Олег
Бажанов Олег Корнев Павел
Корнев Павел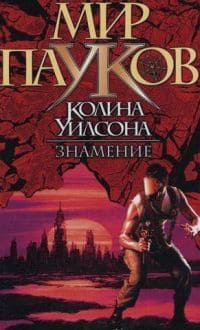 Прозоров Александр
Прозоров Александр Посняков Андрей
Посняков Андрей Маккарти Кормак
Маккарти Кормак