- Андрей Семенович, ведь мы никогда уже с вами не увидимся. Не
обижайтесь на меня. Но неужели вы способны забыть вечера, проведенные нами
вместе?..
И я, правду сказать, смутился.
Председатель пожал плечами, провел ладонью по залысине и поправил очки.
Янковская не замедлила разъяснить смысл сказанного.
- Как видите, майор Макаров не может отрицать нашей близости, -
обратилась она к председателю суда, посматривая то на него, то на меня
своими кошачьими глазами. - Только он спешит уйти от ответственности!
Председатель строго посмотрел на Янковскую и опять поправил очки.
- Что вы хотите этим сказать?
- Только то, что Макаров - такой же шпион, как и я, - отчетливо
произнесла она звенящим и чуть дрожащим голосом. - И даже чуть покрупнее!
Янковская замолчала.
- Мы вас слушаем, - поторопил ее председатель. - Говорите, говорите!
- Он заслан сюда заокеанской разведкой, - с каким-то отчаянием
произнесла Янковская...
И принялась рассказывать о моем свидании с господином Тейлором, о том,
что я им завербован, о том, что я снабжал его ведомство ценной информацией и
что это я выдал гестаповцам коммуниста и партизана, скрывавшегося у меня под
фамилией Чарушина... Да, она сказала все это, пытаясь утопить меня вместе с
собой.
- Чем вы это можете доказать? - холодно спросил председатель.
- Спросите его! - с какой-то пронзительностью выкрикнула она, как бы
нанося мне удар. - Почему он скрывает, что в Стокгольме на его текущем счету
лежат пятьдесят тысяч долларов?
Все-таки она была убеждена, что деньги - это самое главное в мире! Она
привела факты и думала, что мне от них никуда не деться, но я даже не успел
обратиться к суду.
- Вы можете быть свободны, товарищ Макаров, - повторил председатель с
неизменной холодностью в голосе, но в глазах его засветилась какая-то
теплота. - Суду известно, кем санкционированы ваши переговоры с генералом
Тейлором, а что касается денег, переведенных на ваше имя... - Председатель
назвал даже банк, на который был получен аккредитив, слегка наклонился в
сторону Янковской и продолжал уже как бы специально для нее: - Что касается
денег, они были получены по поручению товарища Макарова и даже
израсходованы, но только не на его надобности...
Я посмотрел на председателя суда, и он кивнул мне, давая понять, что я
могу удалиться. Я пошел к выходу.
- Андрей Семенович! - внезапно услышал я за своей спиной дрожащий голос
Янковской. - Все это неправда, неправда! Я все это говорила для того, чтобы
вы разделили мою судьбу... Потому что... Да обернитесь же! Потому что я вас
любила...
Но я не обернулся.
Я понимал, что ей хотелось исправить впечатление от своей лжи, но я
хорошо знал, что и эти ее последние слова - такая же невозможная ложь, как и
вся ее жизнь.
ЭПИЛОГ
Вот, пожалуй, и все.
Сравнительно много времени прошло с тех пор, но из памяти никак не
изгладятся события, описанные мною в этой рукописи.
Окончилась война, я встретился с девушкой, которую любил. Получив
известие о моей гибели, она не поверила в мою смерть, а если немного и
поверила, в ее сердце не нашлось места другому. Она терпеливо ждала меня. С
неизменным волнением слушает жена мои рассказы о Риге и только всегда
хмурится, когда я называю имя Янковской.
Разыскал меня после войны и Иван Николаевич Пронин, мы встретились с
ним у меня дома. Естественно, что первым долгом я тотчас осведомился о
Железнове.
- Где он? Как он? Что с ним?
Но Пронин уклонился от прямого ответа на мои расспросы.
- Когда-нибудь после, - сказал он. - Это сложный вопрос...
И так ничего больше мне не сказал, и я понял, что дальнейшая судьба
Железнова - это, очевидно, целый роман, который еще не время опубликовывать.
Потом мы коснулись нашей жизни в Риге, наших поисков, наших общих
огорчений и удач.
- Ну а что сталось с вашей агентурой, знаете? - спросил Пронин. - Со
всеми этими "гиацинтами" и "тюльпанами"?
- Те, кто уцелел, вероятно, арестованы? - высказал я догадку.
- Да, большинство арестовано, - подтвердил Пронин и усмехнулся. - Но
трех или четырех не стоило даже трогать, на всякий случай за ними
присматривают, хотя оставили их на свободе.
Мы еще договорили о том о сем. Я выразил и удивление и восхищение
быстротой и тщательностью, с какой Пронин сумел оборудовать рацию капитана
Блейка.
Пронин снисходительно усмехнулся.
- Обычная практика. В таких обстоятельствах мы не то что английский
передатчик, черта бы из-под земли выкопали...
Несколько лет спустя после этой встречи мне довелось проездом побывать
в Риге, задержаться там я мог всего на один день. Я походил по городу; он
был по-прежнему красив и наряден, зданий, разрушенных войной, я уже не
нашел, на смену им поднялись другие. Подошел я и к дому, в котором
квартировал у Цеплисов; дом сохранился, но жили в нем другие жильцы. Юноша,
открывший мне дверь, сказал, что Цеплис работает в одном из сельских районов
секретарем райкома партии. Мне хотелось его повидать, но я не располагал
временем на разъезды. По возвращении в Москву я написал Мартыну Карловичу
письмо, и теперь мы с ним обмениваемся иногда письмами.
Попытался найти Марту, но я не знал, где ее искать, а в адресном столе
Марта Яновна Круминьш не значилась.
Потом мне пришла в голову мысль съездить на кладбище. Я прошелся по
аллеям, побродил между памятников и крестов и, удивительное дело, нашел
собственную могилу: памятник майору Макарову сохранился в
неприкосновенности.
Что еще остается сказать?..
По роду своей работы мне приходится следить за иностранной прессой,
правда, я интересуюсь больше специальными вопросами, но попутно читаешь и о
другом.
Профессор Гренер перебрался-таки за океан, у него там свой институт, он
там преуспевает.
Мне пришлось как-то прочесть письмо нескольких ученых, опубликованное в
крупной заокеанской газете, в котором они поддерживали венгерских
контрреволюционеров и с нескрываемой злобой выступали против венгерских
рабочих и крестьян, требуя обсуждения "венгерского вопроса" в Организации
Объединенных Наций. В числе прочих под письмом стояла и подпись профессора
Гренера.
Ну, и в заключение еще об одной встрече с Прониным, которая имеет
некоторое отношение к описанным событиям.
После всего того, что я пережил в Риге, нерушимая дружба связала меня с
латышами, навсегда запечатлелись в моем сердце образы мужественных
латвийских патриотов, и все, что так или иначе касалось теперь Латвии, для
меня не безразлично.
Зимой 1955 года в Москве проходила декада латышского искусства и
литературы, и Пронин пригласил меня посмотреть пьесу Райниса. Во время
спектакля Пронин все время обращал внимание на одну актрису, называл ее,
хвалил, подчеркнуто ей аплодировал, как это мы часто делаем по отношению к
своим личным знакомым.
Потом он слегка меня толкнул и спросил:
- Неужели не узнаете?
Какое-то смутное воспоминание мелькнуло передо мной и растаяло.
- Нет, - сказал я.
- Неужели не помните? - удивился Пронин. - Баронесса фон Третнов!
- Так это была артистка! - воскликнул я.
- Рижская работница, - поправил меня Пронин. - Она и не помышляла о
театре. Это товарищи после ее выступления в роли баронессы фон Третнов
натолкнули ее на мысль об артистической карьере.
А в антракте Пронин велел мне посмотреть в правительственную ложу. Он
указал на пожилого человека, беседовавшего в этот момент с одним из
руководителей нашей партии.
- Тоже не узнаете? - спросил Пронин. - Букинист из книжной лавки на
Домской площади.
Но я не узнал его даже после того, как Пронин сказал мне, кто это
такой. Так познакомился я с судьбой еще двух действующих лиц этого, так
сказать, приключенческого романа.
И кажется, можно поставить точку.
Кто-то это прочтет, переберет в памяти страницы собственной жизни,
поверит мне, а может быть, и не поверит, а потом забудет.
Только мне самому ничего, ничего не забыть!
Осенью, обычно осенью, когда особенно часто дает себя знать
простреленное легкое, я подхожу иногда к письменному столу, выдвигаю ящик,
достаю большую медную пуговицу с вытисненным на ней листком клевера, какие в
прошлом веке носили на своих куртках колорадские горняки, долго смотрю на
эту реликвию, и в моей памяти вновь и вновь оживают описанные мною события и
люди.
1941-1957 гг.
Рига - Москва






 Посняков Андрей
Посняков Андрей Белов Вольф
Белов Вольф Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукин Евгений
Лукин Евгений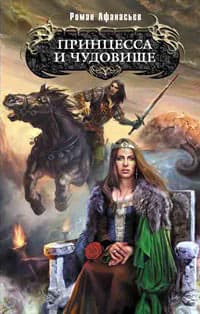 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Мурич Виктор
Мурич Виктор