войны, может, и мерзавец, а он прав. К черту вашу войну! Григорий, вези меня
отсюда!
задних рядах не расслышали, но закричали: "Правильно, верно, спасибо,
господин офицер!" Господин с бородой объяснял своей жене: "Совсем больной
человек, калека; разумеется, он озлоблен". И только один солдат с
расстегнутым воротом гимнастерки, в восторге и задыхаясь, кричал:
окромсали. Хо! Вот так здорово!
него торчала папироса.
ДВОРНИК
дворник выходил из калитки профессорского дворика со скребком и скошенной
набок метлой. Мел долго, чисто и, уходя, смотрел недружелюбно на запущенный
тротуар и на мостовую соседей. И думал о том, что со всеми этими свободами
стал народ лентяй. На дворе свет, а улица не метена.
Скрутили по собачьей ножке, покурили. Лошадь косилась на окна.
бы было.
им поставил, однодеревенца.
солдат пришлый. Ружьев, говорят, нипочем не отдадим.- А в кого стрелять? - В
кого, говорят, приведется, в бар.- А потом что? - А потом, говорит, войну
навсегда прикончим и станем землю отымать.- Да ведь ты покончил свою войну,
убег! - Что ж, говорит, что убег. Нынче свобода! А вшей-то я даром, что ли,
кормил?
тянется. И идут, и идут, и днем идут, и ночью идут. Поди, на фронте ничего
не осталось. Пока до деревни дойдет - жить ему надо. Ну, их и мутят.
чтобы всю власть. А он слушает да на ус мотает.
порядку некому наводить. И опять же с ружьем они.
телега на Арбатскую площадь.
несколько калиток на Сивцевом Вражке, запахло дымом. Зябко засунув руки в
рукава солдатской шинели, прощелкал каблуками человек писарского вида, с
картонной папкой под мышкой. Дворник долго смотрел ему вослед, туго думая,
чья возьмет: барская ли сила или бунтарь, солдатчина. Пройдя в ворота,
осмотрел и их: хотя починки и требуют, а простоять могут еще годы. Подумал:
народу теперь шляется бездомного, а сторожат улицу плохо. Ему дежурить, а он
спит либо пьян. И полиции нет. И вообще время не настоящее, тревожное.
монашеским. Печка разгорелась. Чай пить дворник ходил в кухню, к Дуняше.
Входя в кухню, крестился широким крестом, здоровался словами, за чай садился
молча, разглаживая усы, чтоб не мешали. И крошки хлеба собирал на ладонь, а
как накопятся - в рот.
ворота. Народ пришлый, того и гляди, залезут. А собака, она залает, и все же
острастка. Ты, как проснется, покликай.
пашни, лес - все под глубоким снегом. Чистый, не забитый полозьями, не
мешанный с землей и навозом. Снег - друг, не пачкотня.
дворника старого профессорского особняка на Сивцевом Вражке.
ЗАВИСТЬ
сами один ходят.
Григорий, заслышав шаги и голос, вышел и довел слепого до стола Обрубка.
возбужден и не сводил глаз с приятеля: перед ним был человек, быть может,
такой же несчастный, как и сам он (неужели это возможно!). Человек, не
видящий мира, его красок, его влекущих очертаний. Стольников видит мир,- но
не может обнять его. Каштанов может обнять мир,- но не видя, что и кого
обнимать. В эту минуту "мир" казался Стольникову женщиной.
батарее. А когда Григорий ушел в свою комнату, скоро перевели разговор на
свои бедствия,- и спеша, полушепотом, смущаясь, но и перебивая друг друга,
соперничая размерами ужасного горя своего, высказывали друг другу все, что
передумали поодиночке, в долгие ненужные дни одного, в вечную ночь другого.
слепой Каштанов:
делать этими руками? Ты знаешь, Саша, ведь ничего нет, одна темнота, и звуки
из темноты, голоса, шум, музыка, смех,- и всего этого, Саша, нет, только
сны, а взаправду нет. Ты и дома и за окном видишь, тебя по улице возят, а
для меня этого нет, одна ночь. Вот ты говорил: ноги свои чувствуешь. Я тоже
свет чувствую - каким знал. Перед глазами дома, люди, женщины, так бы к ним
и кинулся, а нет их, Саша, совсем нет, в ночи утонули. Когда я знаю, что
темно, вечер - мне легче. А когда на лице чувствую солнце и греет оно,- вот
когда, Саша, совсем невыносимо. Оно меня ласкает, а я его про
вижу, знаю, что есть,- только не для меня. Ты сам в лавочку ходишь, до меня
один добрался, а меня Григорий в коляске возит и кормит с ложки. Ты пойми -
разве я человек? Ты хоть ночью со всеми равен,- я никогда. Ты можешь женщину
обнять...
могу, я, может быть, Каштанов, люблю даже, давно люблю, а коснуться не могу,
за руку не могу взять. Я ей противен, Каштанов, я ведь не человек, я синяя
культяпка, обрубок, недоразумение. Я мочиться сам не могу, черт меня...
возьми меня черт... Вот я реву, а мне и слезы согнать нечем, я головой
трясти должен. Мне они в нос текут, черт их, черт, черт...
платок, ощупью отыскивал лицо Стольникова и вытирал ему глаза.
опять Каштанов, захлебываясь, громко шептал:
порой не только ноги-руки, а всего себя отдал бы за одну только минуточку,
чтобы только глазами увидать. Ты говоришь - любишь, а ты знаешь ли, как я
любил, и она жива, существует, однажды была у меня, я и голос ее слышал,-
каждую нотку знаю. У нее, Саша, глаза были... я говорю - были... ну да, для
меня были, а теперь нет, синие-синие, удивительные глаза. И вот, Саша, их
нет больше - для меня нет. Ты говоришь - обнять, а мне нужно глазами обнять,
хочу улыбку видеть, а так мне каждое слово кажется обманом и ложью, и никого
мне не надо. А солнышко я тоже обнимать должен? И еще есть на свете море,
дали, леса есть, красота есть, картины есть, а где это, Саша? Все дьявол
съел. Ты пойми. И ни рук, ни ног мне не надо, ни к чему. Так вот ногтями
вцепился бы и содрал эту заслонку...



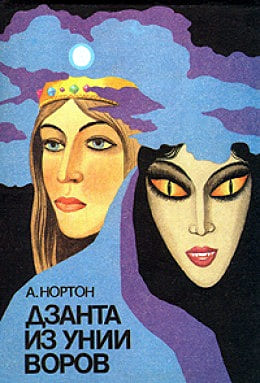


 Березин Федор
Березин Федор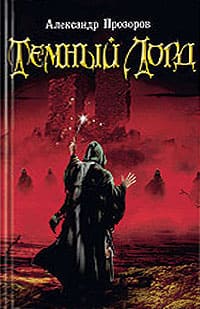 Прозоров Александр
Прозоров Александр Ильин Андрей
Ильин Андрей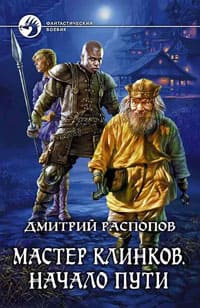 Распопов Дмитрий
Распопов Дмитрий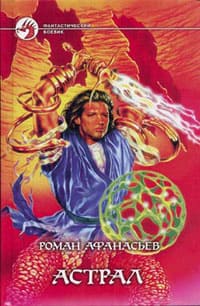 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Посняков Андрей
Посняков Андрей