некрасивостью и часто потирал руки.
устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял аккорд, пробежал по
клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него.
Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось - конец ковра попал
под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд - хорошо.
но могу и что-нибудь другое...
готово?
импровизация. Я называю это... можно назвать "Космос".
по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает
звуки в их раздельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на
мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича
называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот
она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои
мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.
старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен,
Григ - все это слыхал, имена, - но как различать? Скрябин - диссонансы.
Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос, это
что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень
мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и
стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они
смыслят в паровых котлах? И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка
выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным,
неинтересным.
задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с
гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на
земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен
космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская
природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность
высшего, что зовется искусством. Я - профессор, я известен, я стар, я не
хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший,
уверенный, уходящий. Звуки - как цветы, музыка - пестрый луг, леса,
водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, и он чувствует многое,
что другим дается наукой, мыслью, старостью.
остывшая планета - лампа Аглаи Дмитриевны. Старуха слушает, вяжет, не
спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в
самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается.
Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать
лет, пусть учится. Но все равно - выйдет замуж, и это главное. С музыкой
выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться
некуда. Танюша - сирота, но счастлива та сирота, у которой живы и
благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитриевна
посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.
Мироздание - огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом -
не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки,
семью ее основными тонами,- но художественной догадкой знания не подменишь.
Семь цветов спектра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую
массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела,
устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же
путем постижения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном
изучает Вселенную. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим
прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким... восемь минут назад,
звезда была такой - тысячелетие тому назад, другая звезда - десять, сто
тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно.
Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что
она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса
нет, но переведи их на язык слов и цифр... и получится... Эвклидова
геометрия.
ТАНЮША
дедушки.
точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными,
безответными вопросами звезд, планет, туманностей, житейским, возросшим до
вселенного, вселенным, упавшим до мелочи быта.
ее орбите - жила. Отдала работе неосознанной мысли и свое легкое тело, и
душную теплоту дедушкиного плеча, и полумрак залы, и колебанье звуков.
хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с
ними - за пределами стен. Дыша - открывала рот, чтобы не мешать слуху.
Послушно принимала в склады ума новые тюки нераспакованной мысли - запасы
сырья, к обработке которого после-после, с утренней силой приступить. Не
боялась - но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.
пороге жизни, едва за пределами хаоса, из которого вышла ребенком. Она
только начала собирать крупицы реального знания, вся была в мире вопросов,
первых ощущений, важнейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к
ясному, к аксиоме, не принимала теорий, негодовала на двойное решение, не
нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос дедушкиной
бороды,- но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью
прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой
складки скатерти - к сладкому и страшному "зачем жизнь?" и особенно "как
жить?". Однажды уже додумалась, что цель жизни - в процессе жизни; и потому
мучалась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не унизила ли смысла
существования?
одной линии зрения могут не дать прямой, что это относительно. Не поняла
вполне, но взволновалась: как же быть тогда с тем, что уже считала решенным,
чем проверяла свои выводы? Как дедушка может усмехаться и быть спокойным -
ученый дедушка? Разве он знает что-то большее? Когда Поплавский говорил о
своих смешных точках, у него даже глаза стали грустными. А дедушка, который
должен же понимать и который тоже знает, был совсем спокоен и шутил:
о точках, а вообще о том, как же быть, если ничего совсем-совсем верного
нет? И тогда же - попутно - догадалась, что есть люди, берущие готовое и
строящие на нем счастье, и есть люди, которым счастья и построить не на чем,
так как почва под ними всегда дрожит от сменяющихся вопросов. Дедушка из
первых; но может быть, эти первые знают что-то еще высшее, выше вопросов, не
поколебимое ничем? И, однако, пытливым умом была со вторыми.
нотной бумаги,- слушала Танюша странную и сильную импровизацию своего
учителя и думала свое, мелкое, бытовое, житейское - и великое, не разрешимое
для мягких еще мускулов сознания. Ее мироздание лишь строилось.
что высказывал, - свел к немногим простейшим звукам. Неужели для него это
так ясно? Кончил - и все молчат. Встал, потер руки, посмотрел на лампу
виноватыми глазами, и Аглая Дмитриевна поверх очков одобрила, сказавши:
нечего. И Танюша, очнувшись, вздохнула.
LASIUS FLAVUS
ангел жизни бросал семена.
набухало, лопалось и выпускало сочный белый росток и нитку корня.
частички земли; росток напрягал все силы, чтобы выпрямиться, открыть зеленый
лист и распластать перед солнцем.
травами и среди новых зеленых всходов бросал семена зла и раздора. К утру и
их зеленый обман пригревало бесстрастное солнце, и человек радовался богатым
всходам засеянных полей.
вытянулась и заколосилась первая травка, на нее поспешно взобрался муравей
Lasius flavus*. Это не был охотник за травяными тлями. Муравейник на опушке
леса имел прекрасные стада тлей и был обеспечен их сладким молоком. Но
известили лазутчики, что в окрестностях неспокойно, что грозит муравьиной
республике нападение охотничьих племен Formica fusса**, которые уже


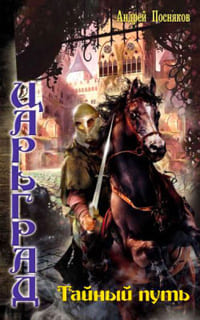


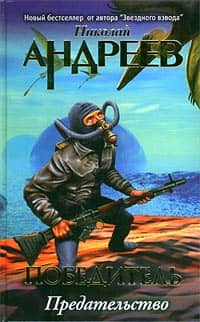
 Посняков Андрей
Посняков Андрей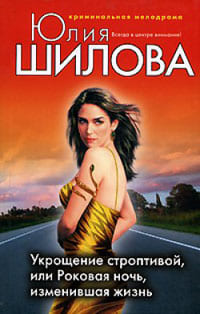 Шилова Юлия
Шилова Юлия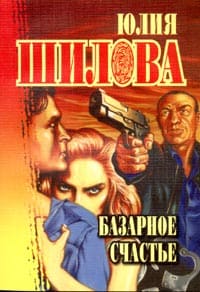 Шилова Юлия
Шилова Юлия Флинт Эрик
Флинт Эрик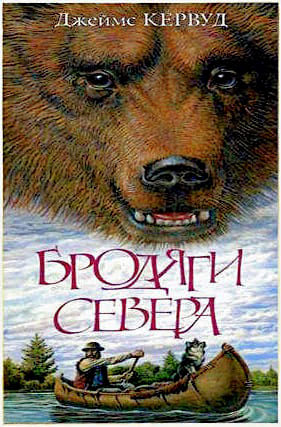 Кервуд Оливер Дж.
Кервуд Оливер Дж. Сертаков Виталий
Сертаков Виталий