положение. Поэтому на нас и надежда.
На другой день полк поработал на славу. "Старики" и молодежь штурмовали
переправы через Днепр, налетали на отступавшие колонны немецко-фашистских
войск, помогали наземным частям сбивать арьергарды противника, которые
прикрывали поспешный отход основных сил. В одном из вылетов, когда мы
находились над полноводной украинской рекой, кто-то из летчиков, нажав
кнопку передатчика, среди напряженной тишины вдруг запел:
Ой Днипро, Днипро, ты широк, могуч, Над тобой летят... штурмовики.
Неожиданная замена слова была так кстати, прозвучала так вдохновляюще,
что, поддавшись настроению, я команду "В атаку-у!" тоже подал нараспев,
протяжно. После вылета я спросил летчика Алексея Будяка, не он ли пел о
Днепре - голос показался его.
- Ни, мабуть, нэ я... - еще не зная, как воспримет командир сольное
выступление, ответил Алексей. А сам широко улыбнулся, довольный и вылетом, и
тем, что гоним врага с днепровских круч.
Было чему радоваться. Оправдались слова поэта: Славный день настал, мы
идем вперед И увидимся вновь с тобой... Теперь мы часто виделись с Днепром.
В эти заполненные до отказа дни как-то притупилась горечь от неудачного
вылета 31 января. Делиться пережитым я не стал ни с кем, у каждого полно
было своих забот и своих неприятностей: того "пощипали" "мессеры", тому
сделали пробоину зенитки, тот неудачно совершил посадку. Каждый день был
полон таких больших и малых тревог. Думалось, вряд ли кто будет возвращаться
к тому памятному для меня полету на разведку переправ. Но нет, друзья ничего
не забыли. Как-то под вечер майор Лобанов словно мимоходом сказал:
- Зайди-ка с Карповым через часок.
Потом встретился Карпов. Спросил:
- Тебя Степан Иванович приглашал?
- И тебя тоже?! Зачем - не знаешь?
- Там и узнаем, - поспешно ответил Александр.
Чья это была инициатива, до сего дня не знаю, но тот вечерок хорошо
запомнился мне. Собралось нас четверо: штурман полка майор Лобанов,
начальник воздушно-стрелковой службы капитан Заворыкин и командиры двух
эскадрилий - Карпов и я. Разговор начался с шуток. Степан Иванович
рассказал, как его воздушный стрелок Сеня Кузнецов строчит девчатам письма в
десятки адресов и подписывает "летчик-штурмовик такой-то".
- И за меня, черт, пишет! - заразительно смеялся Лобанов, отчего
ходуном ходила на гимнастерке Золотая Звезда. И вдруг как обрезал: - Скажи,
Василий, сколько раз тебя подбивали?
У меня сразу мелькнуло: так вот зачем собрались друзья! Постарался
взять себя в руки, как можно спокойнее ответил:
- Достаточно...
Карпов подхватил:
- Уточняю - шесть раз. Сведения достоверные...
Потом и началось... Товарищи обвиняли меня в бесшабашности в районе
цели, в безрассудном риске, в недостаточном маневрировании в зоне огня.
Такие "обвинения" легче, конечно, перенести, чем упреки в трусости. При этом
товарищи были объективны и делали скидку на возможные случайности, на особую
ситуацию, но никто из них не преминул вспомнить тот случай, в балке Снежная,
когда я действительно один стал штурмовать танки и когда моему "илу"
особенно сильно досталось. Правильно говорят: победителей не судят. Но
только тех, которые побеждают регулярно. А у меня победы чередовались с
поражениями. Вот друзья и хотели помочь мне избавиться от неудач, делились
своим опытом, давали советы, порой не щадя моего самолюбия. Пусть не во всем
были правы (мне-то лучше было знать, как в там или ином случае меня
подбили), но "разбор" моих вылетов вели люди компетентные, знавшие о
зенитном огне не понаслышке.
- Одним словом, пора, Василий, встряхнуться, - подытожил разговор Иван
Александрович Заворыкин. - Тебе сейчас сколько? Двадцать шесть? Так вот!
Надо, чтобы не оборвалась жизнь в молодости.
- Чтобы о войне мог и внукам рассказать, - уже веселее закончил
Лобанов. - Они-то обязательно спросят, как деды воевали.
Старшему из будущих дедов, Лобанову, в то время еще не было тридцати, а
младшему, Карпову, шел двадцать четвертый.
Многое после того разговора я передумал и переоценил. Правильно
поругали меня друзья! Может, и книгу эту я смог написать лишь потому, что
пошла мне впрок дружеская головомойка. Действительно, пора было закончить
игру в прятки со смертью. Надо больше проявлять военной хитрости. Зачем
лезть на рожон, если можно выполнить задачу, зайдя на цель с другой, более
удобной и неожиданной для противника стороны!
Летчик-штурмовик в каждом вылете рискует не только собой, но и жизнью
воздушного стрелка. У меня все не выходил из памяти Сычев. Кем теперь
заменить его? Пока штурмовали плацдарм, летал со мной Михаил Устюжанин,
бывалый стрелок, имевший на счету не один сбитый истребитель врага. Но
Михаил давно уже слетался со своим командиром Леонидом Кузнецовым. Не стоило
разбивать дружный экипаж. Пришлось брать на задание любого свободного
стрелка. От этого, понятно, снижалась боеспособность штурмовика,
взаимодействие его экипажа в воздухе.
Однажды на старте перед самым вылетом подошел ко мне комсорг полка
сержант Иван Гальянов, решительный, строгий парень. С ходу предложил:
- Товарищ старший лейтенант! Разрешите с вами слетать на задание.
- Почему так срочно! - насторожился я. - Судьбу хочешь испытать?
...Воздушный стрелок Гальянов недавно возвратился из госпиталя. Там у
него началось заражение крови, нужно было резать руку. Но он не дал согласия
на ампутацию, и риск увенчался успехом. Врачи сумели спасти руку. На фронте
Гальянов воевал с первых дней войны, с весны сорок третьего года летал
воздушным стрелком. Был ранен при штурмовке вражеских эшелонов на одной из
железнодорожных станций Донбасса. Последние недели, пока выздоравливал,
выполнял обязанности комсорга полка и находился в подчинении майора
Поваляева. Как быть? Без разрешения командира полка или замполита я не мог
взять Гальянова в полет.
- Знаешь ли, что Пальмова часто сбивают? - спросил в упор.
- От этого никто не застрахован, - решительно возразил Гальянов. - Мой
командир Николаев, пока я был в госпитале, погиб. А мне нужно участвовать в
боях. Понимаете - нужно! Не могу я спокойно ходить по земле!
Тогда я не знал настоящей причины его странной настойчивости. Думал,
Гальянов переживает такое знакомое мне после госпиталя нетерпение снова
подняться в воздух, чтобы вместе со всеми сражаться против фашистских
захватчиков. Но немного позже я узнал: у комсомольца Гальянова был особый
счет к фашистам.
В сентябре 1943 года советские войска освободили Брянщину, родные места
Гальянова. Иван тогда находился в госпитале, перенес операцию, и друзья под
его диктовку написали письмо в деревню Городище Брасовского района, где жила
семья Ивана - мать и пять сестер. Старший брат был на фронте, отец умер
задолго до войны. Ответа из дому долго не было, и решил Иван написать в
военкомат. Оттуда сообщили что-то невразумительное, мол, семья еще не
возвратилась из Холмецких лесов. Знал Иван эти леса. Как могла оказаться там
пожилая мать и малолетние сестры? Может, вместе с партизанами? Но уже
достаточно прошло времени для возвращения из лесов, да и холода наступали.
Решил своей поправившейся рукой написать в сельсовет. В сердце было недоброе
предчувствие. И оно, к горькой печали, оправдалось. Из сельсовета письмо
пришло в полк. Распечатал его Иван - и расплылась перед глазами фиолетовая
печать, поплыли строки... Не было у него семьи... При отступлении вражеские
оккупанты расстреляли мать и сестер: старшую Таню, пятнадцатилетнюю Варю и
одиннадцатилетнюю Полинку. Вместе с ними и малолетнюю племянницу, дочь Тани.
А 18-летнюю сестру Марию угнали в Германию на фашистскую каторгу. В живых
осталась одна сестра Анастасия.
Вот эта весть и жгла неуемной жаждой боя сердце воздушного стрелка.
Знай в тот момент я о письме, может, и не взял бы тогда Гальянова на
задание, подождал бы, пока уляжется боль. Но его настойчивость победила, и я
не устоял, махнул рукой:
- Бери парашют...
Так в моем экипаже появился боец, который стал достойной заменой своему
тезке Ивану Сычеву. С Гальяновым мы вместе летали до конца войны. Правда,
командование полка не сразу согласилось отпустить комсорга, да и рука у него
еще не совсем поправилась. Во многих переделках нам пришлось побывать. Но я
всегда был уверен в надежности моего воздушного щита. Однажды Гальянов
полетел с молодым летчиком Михаилом Лобановым, однофамильцем штурмана полка,
Случилось так, что самолет их был подбит, осколок зенитного снаряда повредил
маслосистему. На стекле фонаря образовалась масляная пленка, полностью
закрывшая летчику обзор. А открыть фонарь нельзя: горячее масло било летчику
в лицо. Самолет они сажали вдвоем: Лобанов вел его на вынужденную посадку, а
Гальянов, стоя в своей кабине, подсказывал летчику примерную высоту и
предупреждал о препятствиях. Возвратились они лишь вечером. И Гальянов сразу
мне заявил:
- Нет, товарищ командир, нам с вами порознь летать нельзя!
Больше мы не расставались. В полете воздушный стрелок вел себя активно,
постоянно сообщал обстановку, зорко следил за противником. В один из сырых
февральских дней, когда стояла распутица, в паре с Юрием Федоровым мы ходили
на правый берег Днепра штурмовать скопление вражеской техники. Накопилось ее
там уйма! Видимо, противник за ночь, когда подмерзло, подтянул сюда
артиллерию, автомашины, танки. Каждая бомба, каждый реактивный и пушечный
снаряд попадали в цель.
Намолотили мы там много. И хорошо, что все это я зафиксировал на
фотопленку. Потом ее отдали на обработку в дивизионную фотолабораторию. Но
ждать проявления было некогда, штаб полка требовал доклада о результатах
вылета. Заместитель начальника штаба старший лейтенант Григорий Шайда слушал
мое сообщение с долей недоверия. Однако писарь штаба Александр Сергеевич
Козлов, высокий, худощавый, в очках, все это добросовестно заносил на
бумагу. После моего ухода между ними состоялся разговор, о котором я узнал
позже.




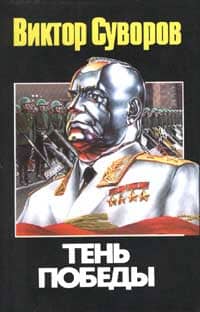

 Орлов Алекс
Орлов Алекс Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Василенко Иван
Василенко Иван Ильин Андрей
Ильин Андрей Лукин Евгений
Лукин Евгений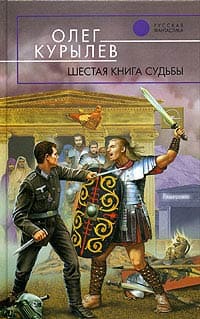 Курылев Олег
Курылев Олег