не любила!
недопонимаю. Чему ж ты учила Георгия Мартыновича?
день и ночь кипятить? Ее али запаривать надо, али варить, сколько
назначено. Он и сам, чай, знал. Мало я пользовала его, что ли? В тот год
еще, помню, когда он на Шатуре занемог...
осторожно вернул старую женщину к событиям того, отмеченного лишь первой
вешкой дня. - Про зелье и про Шатуру твою мы еще побеседуем, а сейчас ты
лучше про сберкнижку разобъясни. Где она у тебя?
Как и быть-то, не знаю. За дрова платить надо, стекольщику пять рублев.
Деньги все кончились, почитай, а книжка тю-тю... Пропала.
показала на разделочный столик между мойкой и холодильником. - Заявить
теперь надо али еще как?
упоением ощущая, как его все быстрее и быстрее выносит на нужную колею. -
Номер книжки хоть помнишь?
помнила... Без номера-то небось не вернут?
тебе пособлю... Кстати, на чье она имя?
Мартыновичем приключилось, счетом пользоваться ты навряд ли сможешь. Это я
тебе точно говорю... Других средств у тебя нет?
рубликов, да рази их хватит на дом? Одного свету уходит шестнадцать, а
дрова... Сам мне и трогать пенсию-то не велел. Свою доверенность написал.
ускользает нечто исключительно важное, все же поспешил уточнить Люсин. - В
сберкассу?
Степановна обнаружила явное стремление заручиться люсинской
благосклонностью. - Уж ты разберись, что к чему, а то как бы, не ровен
час, меня на улицу не выкинули. - Она подавленно всхлипнула. - Сам-то уж
не заступится. Я намедни и панихиду по нему отслужила...
перекрестилась. - Еще будешь чего спрашивать?
сберкнижке остановились? Твоя-то хоть при тебе?
выдвинула почти до отказа заветный ящик.
общую, очевидно скопившуюся за несколько лет, сумму. - А эту тридцатку
небось на гостинцы сняла? - спросил он, взглянув на последнюю дату. -
То-то, я смотрю, в один день.
надумала, чтоб зазря потом не ходить.
Люсин. - За одним, впрочем, исключением. Куда могла деваться сберкнижка?
ли на месте. Ведь спрашивал, Аглая Степановна?
стекольщика позвала.
Люсин. - Небось обождет?
- обращаясь к Степановне, рассуждал вслух Люсин. - Сберкнижка, как ты
говоришь, пропала. Отсюда мы с известной уверенностью можем заключить, что
взял ее не кто иной, как твой Георгий Мартынович. Могло такое быть?
вот он и взял.
Константинович прошел в знакомый кабинет, где уже был наведен
относительный порядок: выметены битое стекло и прочий мусор, подвешены на
прежнее место полки. Только стопки тетрадей и книг, бережно накрытые
газетами, жались друг к другу в дальнем углу от окна. Словно ждали, что со
дня на день вернется хозяин и заботливо расставит по заветным, раз и
навсегда назначенным местам.
нерешительность. Она настигала его всякий раз, притом абсолютно внезапно,
когда после долгих мытарств и окольных блужданий обозначался, вызывая
краткое нарушение сердечного ритма, отчетливый след. Вместо того чтобы с
удвоенным рвением устремиться в погоню, хотелось остановиться, перевести
дыхание и еще раз мысленно оценить проделанный путь. Выполнить столь
мудрое и спасительное намерение ему, однако, редко удавалось. Преодолев
минутную растерянность, он давал волю фантазии, повинуясь только
инстинкту. Трезво мыслить в такие минуты Люсин совершенно не мог. Только
действовать, отвоевывая упущенные секунды.
расходившееся сердце. Он заставил себя сосчитать до ста и только тогда
взял трубку. Прочистив кашлем пересохшую гортань, вызвал междугородную.
телефона.
электросчетчика. - Уж я бы вычислил, когда рванула эта самая колба и
полетели пробки".
показание, Солитов словно веху поставил, прежде чем кануть в небытие.
прорези проблескивало серебристое колесико с красным мазком. Медленно
наползала рельефная цифра в крайнем окошке. Немой свидетель, выбросивший
сигнал бедствия, когда в доме случилось несчастье. Но люди не заметили
второпях, прошли мимо. Местный умелец дядя Володя поспешил ввернуть новую
пробку, и закрутилось, запело колесико, стирая следы.
успела снять с огня клокочущий котелок, исходивший сытным грибным духом.
передником.
О-о!
черный тяжелый хлеб и бросила на стол обсосанные деревянные ложки.
дрожи родное прикосновение дерева. Когда-то, в иной жизни, бабушка
потчевала его из такой же липовой потемневшей ложечки, невесомо и гладко
сновавшей во рту. Давным-давно нет бабки на свете, нет и ее тихого домика
с полосатой кошкой и огородом, где рос упоительно сладкий горошек и
скромно склонялись золотые шары. Но в каждой клеточке тела живет
благодарная грустная память...
ладонью, предложила Степановна. - У меня хорошая есть! Семитравочка! Али
на смородиновых почках попробуешь?
Степановна. Служба. А за похлебку спасибо. Сто лет такой не едал. Опенки
тут собирала?
кустик знала. Грибов там было, хоть косой коси: видимо-невидимо. А
гонобобеля сколько! Черники... Может, выкушаешь стопку-то? Кто с тебя
спросит?
другой раз семитравку твою попробую. Ты как настаиваешь?
мха?
зелья добрые уродились, сильные. А в "Кубанскую" я первым делом зверобой
положила, потом, конечно, золототысячник, горец и донник, и зорю, и
тысячелистник... Это ж сколько выходит? - прикрыв глаза, она беззвучно
зашептала, подсчитывая. - Шесть?.. Седьмая, значит, трава - желтый цвет
мать-и-мачехи. По весне брала. Еще снег не всюду сошел... Да ты, чай, не
слушаешь?
рецепт запишу.
странную женщину, прожившую, очевидно, не очень легкую и не очень
счастливую жизнь. Ее изломанная душа, где так причудливо соединялись
доброта и недоверчивость, роковая какая-то устремленность к невидимым
пределам и глухая, заматеревшая косность, была если и не открыта ему, то
интуитивно ясна, постигаема. Ежели и таились в сумеречных дебрях какие


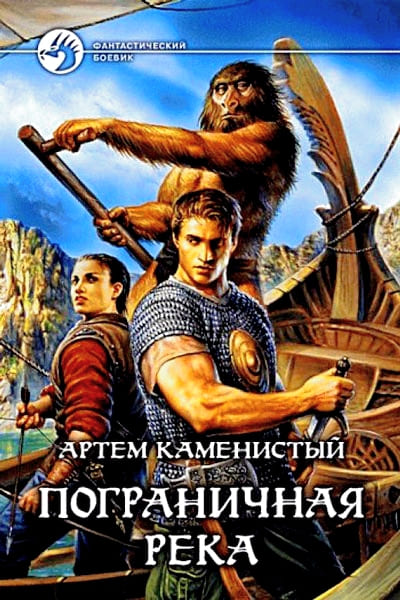



 Максимов Альберт
Максимов Альберт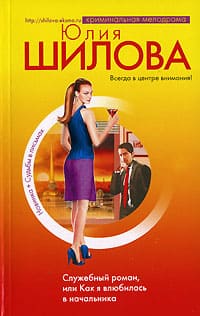 Шилова Юлия
Шилова Юлия Суворов Виктор
Суворов Виктор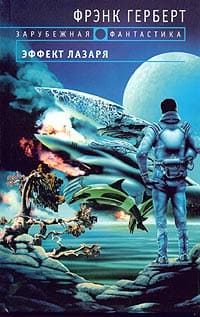 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Сертаков Виталий
Сертаков Виталий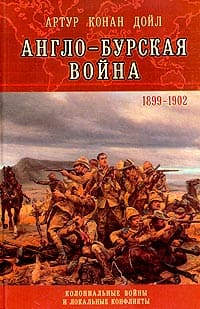 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур