августа 1958 г.: "...В начале тридцатых годов было такое
движение среди писателей -- стали ездить по колхозам собирать
материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и
тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу.
было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное
бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не
укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год не мог
спать".
Пастернак говорил ему, что именно там, под Свердловском, он
"написал много кусков будущего "Доктора Живаго" (у партизан, в
Сибири)", но "был еще далек от мысли о "Докторе Живаго" в том
виде, в каком он сложился".
конце концов, как и предыдущие попытки большой прозы, осталась
неисполненной.
Доме писателей на вопрос не раз писавшего о Пастернаке критика
А. К. Тарасенкова о его "генеральной прозе" Пастернак ответил:
"Вы очень правы, называя ее генеральной... Она для меня крайне
важна. Она движется вперед хоть и медленно, но верно. Материал
-- наша современность. Я хочу добиться сжатости Пушкина. Хочу
налить вещь свинцом фактов. Факты, факты... Вот возьмите
Достоевского -- у него нигде нет специальных пейзажных кусков,
-- а пейзаж Петербурга присутствует во всех его вещах, хоть
они и переполнены одними фактами. Мы с потерей Чехова утеряли
искусство прозы. <...> Очень трудно мне писать настоящую
прозаическую вещь, ибо кроме личной поэтической традиции здесь
примешивается давление очень сильной поэтической традиции XX
века на всю нашу литературу. Моя вещь будет попыткой закончить
все мои незаконченные прозаические произведения. Это
продолжение "Детства Люверс". Это будет дом, комнаты, улицы --
и нити, тянущиеся от них повсюду. <...> Нужны факты жизни,
ценные сами по себе. Пусть это будет неудачей, я даже наперед
знаю, что вещь провалится, но я все равно должен ее
написать..."
надвигающегося на страну террора работать становилось все
труднее. В письме Пастернака Тициану Табидзе 10 марта 1935 г.
ощутимы признаки подступающего душевного кризиса. В нем
Пастернак жалуется своему грузинскому другу на "серую,
обессиливающую пустоту", отнимающую у него возможность писать:
"Что же будет с работой, если это повторится завтра?"
заболевания от почти годовой бессонницы". В этом состоянии
"внутреннего ада" почти насильно он был в июне отправлен в
Париж для участия в Международном конгрессе в защиту культуры
по личному распоряжению Сталина, уступившего настойчивым
просьбам французских устроителей включить Пастернака в состав
делегации советских писателей. Овации, устроенные ему
собравшимися при его появлении на конгрессе, панегирические
оценки его поэтических достижений, неудача долгожданной
встречи с Мариной Цветаевой, которой он не смог рассказать о
мучившем его душевном разладе, только усугубили его болезнь.
продолжение "генеральной прозы" до весны 1936 г. Но события
минувших месяцев в истории страны и в биографии Пастернака
многое досказали во всех его незавершенных "фабулах и
судьбах". Именно в этот период Пастернак со всей остротой
ощутил нравственную неизбежность прямого разговора со своим
временем "о жизни и смерти", от которого уклонился звонивший
ему в 1934 году по "делу Мандельштама" Сталин. Бесповоротно
принятое решение положило конец бессоннице и болезни и в
ближайшие месяцы привело поэта к общественным поступкам,
представлявшимся немыслимыми и просто самоубийственными с
точки зрения воцарявшихся тогда норм социального поведения.
Конституции и появившимися было признаками смягчения
репрессивного режима, вся страна жила слухами о предстоящих в
будущем году радикальных демократических реформах. Много
позже, в 1956 году, вспоминая об этом времени, Пастернак
признавался, что и ему оно казалось порой "прекращения
жестокостей". На фоне напряженных общественных ожиданий
благодетельных перемен появившаяся 28 января в "Правде" статья
"Сумбур вместо музыки", посвященная опере Д. Шостаковича "Леди
Макбет Мценского уезда", произвела впечатление шока. В
неслыханно грубой и безграмотной форме шельмующая творчество
одного из лучших современных композиторов, она положила начало
целой серии подобных статей в этой же и во многих других
газетах, разом бросившихся отыскивать и разоблачать
окопавшихся во всех областях художественной жизни
"формалистов". Когда же стало ясно, что инициатором кампании
является сам Сталин (на это прозрачно намекала пресса),
творческие союзы охватила настоящая паника, вскоре вылившаяся
в форму истерических самобичеваний и взаимных поношений,
официально именующихся "дискуссией о формализме".
Союза советских писателей. 16 февраля на нем выступил
Пастернак. С первых же слов он заговорил на совершенно
неуместную в рамках этого пленума тему, восхищаясь простотой
"толстовской расправы с благовидными и общепризнанными
условиями мещанской цивилизации". Развивая эту тему, он
предложил, чтобы недавно провозглашенный метод
социалистического реализма опирался на "бури толстовских
разоблачений и бесцеремонностей". "Лично для меня, -- говорил
Пастернак, -- именно тут где-то пролегает та спасительная
традиция, в свете которой все трескуче-приподнятое и
риторическое кажется неосновательным, бесполезным, а иногда
даже и морально подозрительным.
банкетно-писательской практике от этой традиции сильно
уклонились. <...> Искусство без риска и душевного
самопожертвования немыслимо, свободы и смелости воображения
надо добиться на практике, <...> не ждите на этот счет
директив..."
напоминающие собравшимся о мере нравственной ответственности
писателей перед историей страны, звучали прямым вызовом. Так
они и были восприняты официальными лицами в Союзе писателей,
как показал в конце года критический поход против поэта, еще
недавно слывшего "крупнейшим".
общемосковском собрании писателей он публично заявил о своем
несогласии с директивными статьями "Правды", подтвердив тем
самым, что его слова о "риске и душевном самопожертвовании"
были не пустой декларацией.
момент всю фальшь сталинского "социалистического гуманизма",
свидетельствует его письмо двоюродной сестре, О. М.
Фрейденберг, посланное 1 октября 1936 года, в такое время,
когда немногие отваживались не то что доверять почте, но даже
и в уме сочинять письма подобного содержания:
все это до тебя, но это началось статьей о Шостаковиче, потом
перекинулось на театр и литературу (с нападками той же
развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и
производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян,
Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки
лучших, как, например, Владимир Лебедев и др.).
Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и
послушать, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках,
Фединых и Леоновых почти во множественном числе, не сдержался
и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей
печати, называя все своими настоящими именами. Прежде всего я
столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже
официальных, зачем-де я лезу заступаться за товарищей, когда
не только никто меня не трогал, но трогать и не собирался.
Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по
официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из Союза
<...> справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить,
что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это
тоже расценивали как фронду. <...>"
Пастернк, -- когда начались эти страшные процессы, <...> все
сломилось во мне, и единение с временем перешло в
сопротивление ему, которого я не скрывал".
резко изменился. Если прежде его упрекали в "отрешенности от




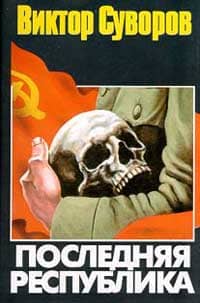

 Лукин Евгений
Лукин Евгений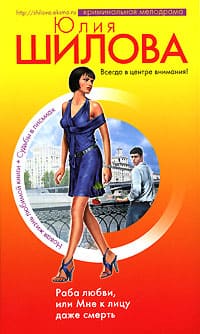 Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел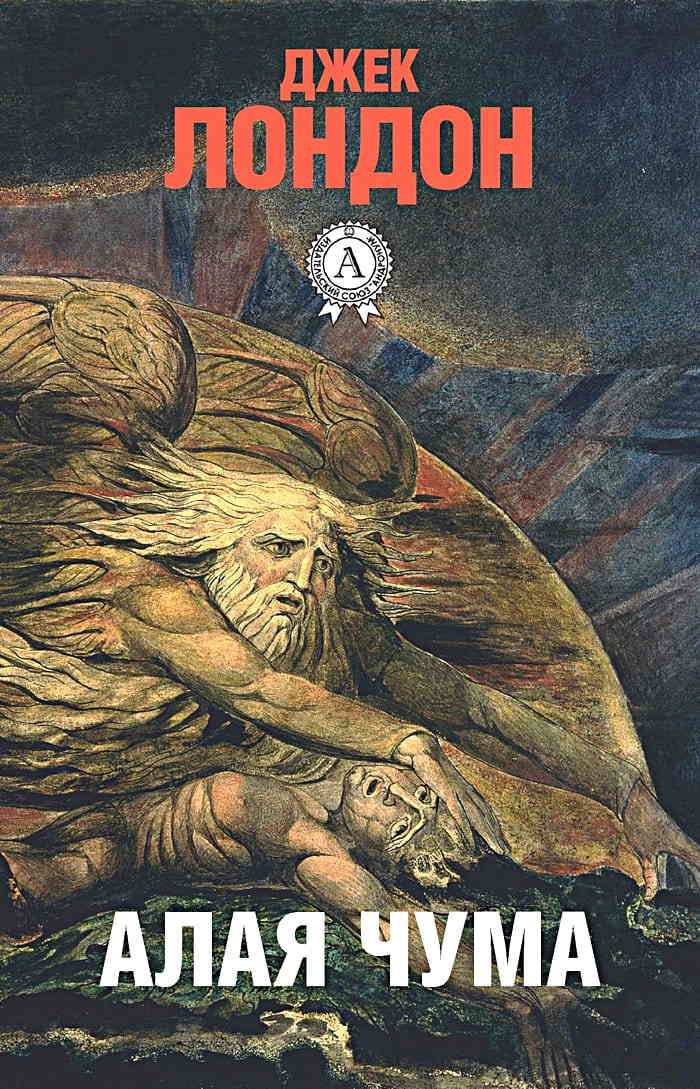 Лондон Джек
Лондон Джек Корнев Павел
Корнев Павел Круз Андрей
Круз Андрей