хомута, после чего, доделав все остальное, подвел лошадь к
крыльцу, привязал ее к нему и пошел сказать Ларе, что можно
собираться.
одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна ломала руки
и, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту,
бросалась в кресло и вставала, и часто прерывая себя
восклицанием "Не правда ли?" на высокой, певучей и жалующейся
ноте, говорила быстро-быстро, бессвязною скороговоркой:
разве можно сейчас ехать? Скоро стемнеет. Ночь застанет нас в
дороге. И как раз в твоем страшном лесу. Не правда ли? Я
поступлю, как ты прикажешь, но сама, собственною волей, не
решусь. Что-то удерживает меня. У меня сердце не на месте. А
ты как знаешь. Не правда ли? Что же ты молчишь и не скажешь ни
слова? Мы проротозейничали целое утро, неизвестно на что
потратили половину дня. Завтра это больше не повторится, мы
будем поосторожнее, не правда ли? Может быть, остаться еще на
сутки? Встанем завтра пораньше, снимемся чуть свет, часов в
семь или шесть утра. Как ты думаешь? Ты затопишь печку,
попишешь здесь один лишний вечер, переночуем здесь еще одну
ночь. Ах это было бы так неповторимо, волшебно! Что же ты
ничего не отвечаешь? Опять я в чем-то виновата, несчастная!
рано. Но будь по-твоему. Хорошо. Останемся. Только успокойся.
Смотри, как ты возбуждена. Действительно, разложимся, снимем
шубы. Вот Катенька говорит, что проголодалась. Закусим. Твоя
правда, нынешний отъезд был бы слишком неподготовленным,
внезапным. Только не волнуйся и не плачь, ради Бога. Сейчас я
затоплю. Но перед тем, благо лошадь запряжена и сани у
крыльца, съезжу за последними дровами к бывшему Живаговскому
сараю, а то у меня тут больше ни полена. А ты не плачь. Я
скоро вернусь.
11
прежних заездов и заворотов Юрия Андреевича. Снег у порога был
затоптан и замусорен позавчерашнею таскою дров.
очистилось. Подморозило. Варыкинский парк, на разных
расстояниях окружавший эти места, близко подступал к сараю,
как бы для того, чтобы заглянуть в лицо доктора и что-то ему
напомнить. Снег в эту зиму лежал глубоким слоем, выше порога
сарая. Его дверная притолока как бы опустилась, сарай точно
сгорбился. С его крыши почти на голову доктору шапкой
исполинского гриба свисал пласт наметенного снега. Прямо над
свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел
серым жаром по серпяному вырезу молодой, только что
народившийся полумесяц.
чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу
своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было
печально. И молодой месяц предвестием разлуки, образом
одиночества почти на уровне его лица горел перед ним.
порог сарая в сани, он забирал меньше поленьев за один раз,
чем обыкновенно. Браться на холоде за обледенелые плахи с
приставшим снегом даже сквозь рукавицы было больно. Ускоренная
подвижность не разогревала его. Что-то остановилось внутри его
и порвалось. Он клял на чем свет стоит бесталанную свою судьбу
и молил Бога сохранить и уберечь жизнь красоты этой писаной,
грустной, покорной, простодушной. А месяц всЈ стоял над сараем
и горел и не грел, светился и не освещал.
привели, подняла голову и заржала сначала тихо и робко, а
потом громко и уверенно.
может быть, чтобы со страху. Со страху кони не ржут, какие
глупости. Дура она что ли голосом волкам знак подавать, если
она их почуяла. И как весело. Это видно в предвкушении дома,
домой захотелось. Погоди, сейчас тронем".
щепы и крупной, сапожным голенищем выгнутой, целиком с полена
отвалившейся бересты для растопки, перехватил покрытую рогожей
дровяную кучу веревкой и, шагая рядом с санями, повез дрова в
сарай к Микулицыным.
где-то вдали, в другой стороне. "У кого бы это? --
встрепенувшись, подумал доктор. -- Мы считали, что Варыкино
пусто. Значит, мы ошибались". Ему в голову не могло прийти,
что у них гости, и что ржание коня доносится со стороны
Микулицынского крыльца, из сада. Он вел Савраску обходом,
задами, к службам заводских усадеб, и за буграми, скрывавшими
дом, не видел его передней части.
сарай, выпряг лошадь, сани оставил в сарае, а лошадь отвел в
пустующую рядом выхоложенную конюшню. Он поставил ее в правый
угловой станок, где меньше продувало, и принесши из сарая
несколько охапок оставшегося сена, навалил его в наклонную
решетку яслей.
запряженный в очень широкие крестьянские сани с удобным
кузовом раскормленный вороной жеребец. Вокруг коня похаживал,
похлопывая его по бокам и осматривая щетки его ног, такой же
гладкий и сытый, как он, незнакомый малый в хорошей поддевке.
состоянии что-нибудь услышать, Юрий Андреевич невольно
замедлил шаг и остановился как вкопанный. Не разбирая слов, он
узнавал голоса Комаровского, Лары и Катеньки. Вероятно, они
были в первой комнате, у выхода. Комаровский спорил с Ларою,
и, судя по звуку ее ответов, она волновалась, плакала и то
резко возражала ему, то с ним соглашалась. По какому-то
непреодолимому признаку Юрий Андреевич вообразил, что
Комаровский завел в эту минуту речь именно о нем,
предположительно в том духе, что он человек ненадежный ("слуга
двух господ" -- почудилось Юрию Андреевичу), что неизвестно,
кто ему дороже, семья или Лара, и что Ларе нельзя на него
Положиться, потому что доверившись доктору, она "погонится за
двумя зайцами и останется между двух стульев". Юрий Андреевич
вошел в дом.
раздеваясь Комаровский. Лара держала Катеньку за верхние края
шубки, стараясь стянуть ворот и не попадая крючком в петлю.
Она сердилась на девочку, крича, чтобы дочь не вертелась и не
вырывалась, а Катенька жаловалась: "Мамочка, тише, ты меня
задушишь". Все стояли одетые, готовые к выезду. Когда вошел
Юрий Андреевич, Лара и Виктор Ипполитович наперерыв бросились
к нему навстречу. -- Где ты пропадал? Ты нам так нужен!
которые мы наговорили в последний раз друг другу, я снова, как
видите, к вам без приглашения.
скорей решай за себя и меня. Времени нет. Надо торопиться.
я пропал, Ларочка? Ты ведь знаешь, я за дровами ездил, а потом
о лошади позаботился. Виктор Ипполитович, прошу вас, садитесь.
Жалели, что этот человек уехал и что мы не ухватились за его
предложения, а он тут перед тобой и ты не удивляешься. Но еще
поразительнее его свежие новости. Расскажите их ему, Виктор
Ипполитович.
очередь скажу следующее. Я нарочно распространил слух, что
уехал, а сам остался еще на несколько дней, чтобы дать вам и
Ларисе Федоровне время по-новому передумать затронутые нами
вопросы, и по зрелом размышлении прийти, может быть, к менее
опрометчивому решению.
Удобное время. Завтра утром, -- но лучше пусть Виктор
Ипполитович сам расскажет тебе.
стоим в шубах? Разденемся и присядем. Разговор-то ведь
серьезный. Нельзя так с бухты-барахты. Извините, Виктор
Ипполитович. Наши Препирательства затрагивают некоторые
душевные тонкости. Разбирать эти предметы смешно и неудобно. Я
никогда не помышлял о поездке с вами. Другое дело Лариса
Федоровна. В тех редких случаях, когда наши беспокойства
бывали отделимы одно от другого, и мы вспоминали, что мы не




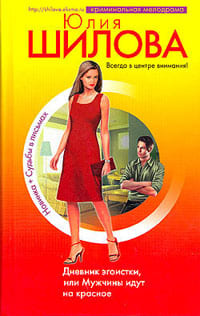

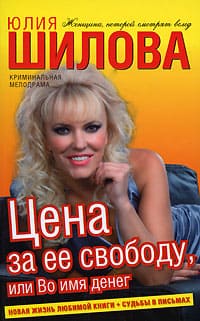 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей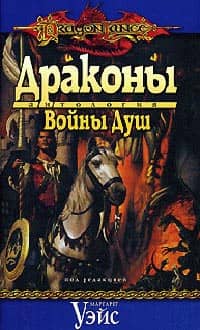 Грабб Джеф
Грабб Джеф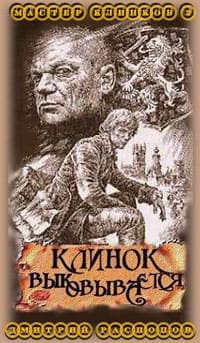 Распопов Дмитрий
Распопов Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия