стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию
о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал.
Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как
приглашение на импровизированный митинг, который тут же и
начался.
немного молча, и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за
них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием
отдыха безразличны были ничтожные разногласия говоривших,
почти во всем солидарных друг с другом.
не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним.
Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не
жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним
торопились согласиться из нетерпения, кричали "позор",
составляли телеграмму протеста и вдруг, наскучив однообразием
его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про
оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой спустились по
лестнице и высыпали на улицу. Шествие продолжалось.
Снег валил все гуще.
подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился
нарастающий гул, как когда толпою кричат "ура". Крики
"караул", "убили" и множество других слились во что-то
неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по
тесному проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе,
стремительно и бесшумно пронеслись лошадиные морды и гривы и
машущие шашками всадники.
сзади в хвост шествия. Началось избиение.
разбегались по переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как
рисунок углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало
из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в
красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного
флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими
ниточками и точками.
человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехало
несколько конных. Они возвращались с конца улицы, куда их
завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа
Гавриловна в сбившемся на затылок платке и не своим голосом
кричала на всю улицу: "Паша! Патуля!"
изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда
наскочили драгуны.
нагайкой, и хотя ее плотно подбитый ватою шушун не дал ей
почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком
удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее, старуху,
осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой.
стороны мостовой. Вдруг она по счастью увидала мальчика на
противоположном тротуаре. Там в углублении между колониальной
лавкой и выступом каменного особняка толпилась кучка случайных
ротозеев.
въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и,
загородив им выход, он производил перед их носом манежные
вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке,
подымал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом
возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка
занял место в их ряду.
подать голос, кинулся к бабушке.
радость, царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им
испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку.
даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что
все происходящее сейчас, это всЈ штуки Купринькиных путаников,
которых она звала промахами и мудрофелями.
Только бы лаяться да вздорить. А этот, речистый, как ты его,
Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой помру, ой помру! Ни дать
ни взять как вылитый. Тру-ру ру-ру-ру. Ах ты зуда-жужелица,
конская строка!
она летах, чтобы ее конопатый болван вихрастый с коника
хлыстом учил по заду.
сотник какой или шейх жандармов.
9
Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время
всматривался вдаль, не увидит ли среди расходящихся Юры или
еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось, только раз ему
почудилось, что быстро прошел этот (Николай Николаевич забыл
его имя), сын Дудорова, отчаянный, у которого еще так недавно
извлекли пулю из левого плеча и который опять околачивался,
где не надо.
Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не
хотелось. Он остановился у Свентицких, своих дальних
родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в
мезонине.
четы Свентицких, покойные старики Свентицкие с незапамятных
времен снимали у князей Долгоруких. Владение Долгоруких с
тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке
разностильных построек выходило в три переулка и называлось
по-старинному Мучным городком.
загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету
снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол
здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо
заделана на зиму.
виден в длину -- убегающая вдаль санная дорога, криво
расставленные домики, кривые заборы.
видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол
свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки
застывшего стеарина.
прошлогоднюю петербургскую зиму, Гапона, Горького, посещение
Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал
сюда, в тишь да гладь первопрестольной, писать задуманную им
книгу. Куда там! Он попал из огня да в полымя. Каждый день
лекции и доклады, не дадут опомниться. То на Высших женских,
то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то в Фонд
стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного
кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный,
всему вторящий, настороженный воздух.
к кому-нибудь или просто так без цели на улицу. Но тут он
вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец
Выволочнов, и ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по
комнате. Мысли его обратились к племяннику.
переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственный
круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михаелисов,
Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному
старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто
величала Федькой. Федька негласно сожительствовал со своей
воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ,
поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже
оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги,
назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую
семью Громеко, где он и по сей день находился.
хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начитался "Смысла
любви" и "Крейцеровой сонаты" и помешан на проповеди



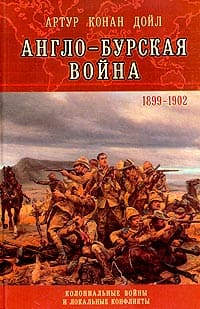

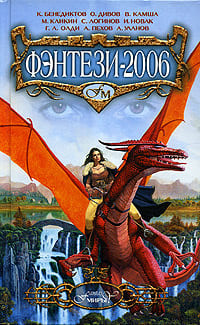
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Панов Вадим
Панов Вадим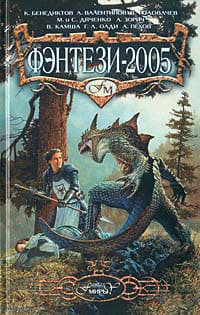 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий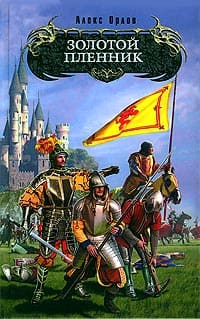 Орлов Алекс
Орлов Алекс Земляной Андрей
Земляной Андрей