14
После перерыва, в течение которого в столовой пили чай с
птифурами, танцы возобновились. Когда свечи на елке догорали,
их уже больше никто не сменял.
танцевавшую с кем-то незнакомым. Проплывая мимо Юры, Тоня
движением ноги откидывала небольшой трен слишком длинного
атласного платья и, плеснув им, как рыбка, скрывалась в толпе
танцующих.
столовой, Тоня отказалась от чая и утоляла жажду мандаринами,
которые она без счета очищала от пахучей легко отделявшейся
кожуры. Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика
батистовый платок, крошечный как цветы фруктового дерева, и
утирала им струйки пота по краям губ и между липкими
пальчиками. Смеясь и не прерывая оживленного разговора, она
машинально совала платок назад за кушак или за оборку лифа.
задевая за сторонившегося и хмурившегося Юру, Тоня мимоходом
шаловливо пожимала ему руку и выразительно улыбалась. При
одном из таких пожатий платок, который она держала в руке,
остался на Юриной ладони. Он прижал его к губам и закрыл
глаза. Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и
разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующий. Это было
что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро
пронизывающее сверху донизу. Детски-наивный запах был
задушевно-разумен, как какое-то слово, сказанное шопотом в
темноте. Юра стоял, зарыв глаза и губы в ладонь с платком и
дыша им. Вдруг в доме раздался выстрел.
зала. Минуту длилось молчание. Потом начался переполох. Все
засуетились и закричали. Часть бросилась за Кокой Корнаковым
на место грянувшего выстрела. Оттуда уже шли навстречу,
угрожали, плакали и, споря, перебивали друг друга.
повторял Комаровский.
госпожа Корнакова. -- Говорили, что здесь в гостях доктор
Дроков. Да, но где же он, где он? Ах, оставьте, пожалуйста!
Для вас царапина, а для меня оправдание всей моей жизни. О мой
бедный мученик, обличитель всех этих преступников! Вот она,
вот она дрянь, я тебе глаза выцарапаю, мерзавка! Ну теперь ей
не уйти! Что вы сказали, господин Комаровский? В вас? Она
стреляла в вас? Нет, я не могу. У меня большое горе, господин
Комаровский, опомнитесь, мне сейчас не до шуток. Кока,
Кокочка, ну что ты скажешь! На отца твоего... Да... Но десница
Божья... Кока! Кока!
отшучиваясь и уверяя всех в своей совершенной невредимости,
шел Корнаков, зажимая чистою салфеткою кровоточащую царапину
на легко ссаженной левой руке. В другой группе несколько в
стороне и позади вели за руки Лару.
необычайных обстоятельствах! И снова этот седоватый. Но теперь
Юра знает его. Это видный адвокат Комаровский, он имел
отношение к делу об отцовском наследстве. Можно не
раскланиваться, Юра и он делают вид, что незнакомы. А она...
Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, политическая.
Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво хороша! А
эти! Тащат ее, черти, выворачивая руки, как пойманную воровку.
ноги. Ее держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом
дотащили до ближайщего кресла, в которое она и рухнула.
большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой
жертве покушения. Он подошел к Корнакову и сказал:
Покажите мне вашу руку... Ну, счастлив ваш Бог. Это такие
пустяки, что я не стал бы перевязывать. Впрочем, немного йоду
не помешает. Вот Фелицата Семеновна, мы попросим у нее.
лица. Они сказали, чтобы он все бросил и шел скорее одеваться,
за ними приехали, дома что-то неладное. Юра испугался,
предположив самое худшее, и, позабыв обо всем на свете,
побежал одеваться.
15
в Сивцевом сломя голову вбежали в дом. Смерть наступила за
десять минут до их приезда. Ее причиной был долгий припадок
удушья вследствие острого, вовремя не распознанного отека
легких.
никого не узнавала. На другой день она притихла, терпеливо
выслушивая, что ей говорили отец и Юра, но могла отвечать
только кивками, потому что, едва она открывала рот, горе
овладевало ею с прежнею силой и крики сами собой начинали
вырываться из нее как из одержимой.
промежутках между панихидами обнимая большими красивыми руками
угол гроба вместе с краем помоста, на котором он стоял, и
венками, которые его покрывали. Она никого кругом не замечала.
Но едва ее взгляды встречались с глазами близких, она поспешно
вставала с полу, быстрыми шагами выскальзывала из зала,
сдерживая рыданье, стремительно взбегала по лесенке к себе
наверх и, повалившись на кровать, зарывала в подушки взрывы
бушевавшего в ней отчаяния.
пения, и ослепляющего света свечей днем и ночью, и от
простуды, схваченной на этих днях, у Юры в душе была сладкая
неразбериха, блаженно-бредовая, скорбно-восторженная.
еще маленький. Он до сих пор помнил, как он безутешно плакал,
пораженный горем и ужасом. Тогда главное было не в нем. Тогда
он едва ли даже соображал, что есть какой-то он, Юра,
имеющийся в отдельности и представляющий интерес или цену.
Тогда главное было в том, что стояло кругом, в наружном.
Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный,
непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так
потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу
и вдруг остался в нем один, без нее. Этот лес составляли все
вещи на свете -- облака, городские вывески, и шары на пожарных
каланчах, и скакавшие верхом перед каретой с божьей Матерью
служки с наушниками вместо шапок на обнаженных в присутствии
святыни головах. Этот лес составляли витрины магазинов в
пассажах и недосягаемо высокое ночное небо со звездами,
боженькой и святыми.
детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала
что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным, как
верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и
обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с
позолотой и, искупавшись в огне и золоте, превращалось в
заутреню или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда
няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками,
боженька -- батюшкой и все размещались на должности более или
менее по способностям. Но главное был действительный мир
взрослых и город, который подобно лесу, темнел кругом. Тогда
всей своей полузвериной верой Юра верил в Бога этого леса, как
в лесничего.
школы, средней и высшей, Юра занимался древностью и законом
Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и о природе,
как семейною хроникой родного дома, как своею родословною.
Сейчас он ничего не боялся, ни жизни ни смерти, все на свете,
все вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим
на равной ноге со вселенною и совсем по-другому выстаивал
панихиды по Анне Ивановне, чем в былое время по своей маме.
Тогда он забывался от боли, робел и молился. А теперь он
слушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к
нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти
слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это
требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не
было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам
земли и неба, которым он поклонялся как своим великим
предшественникам.






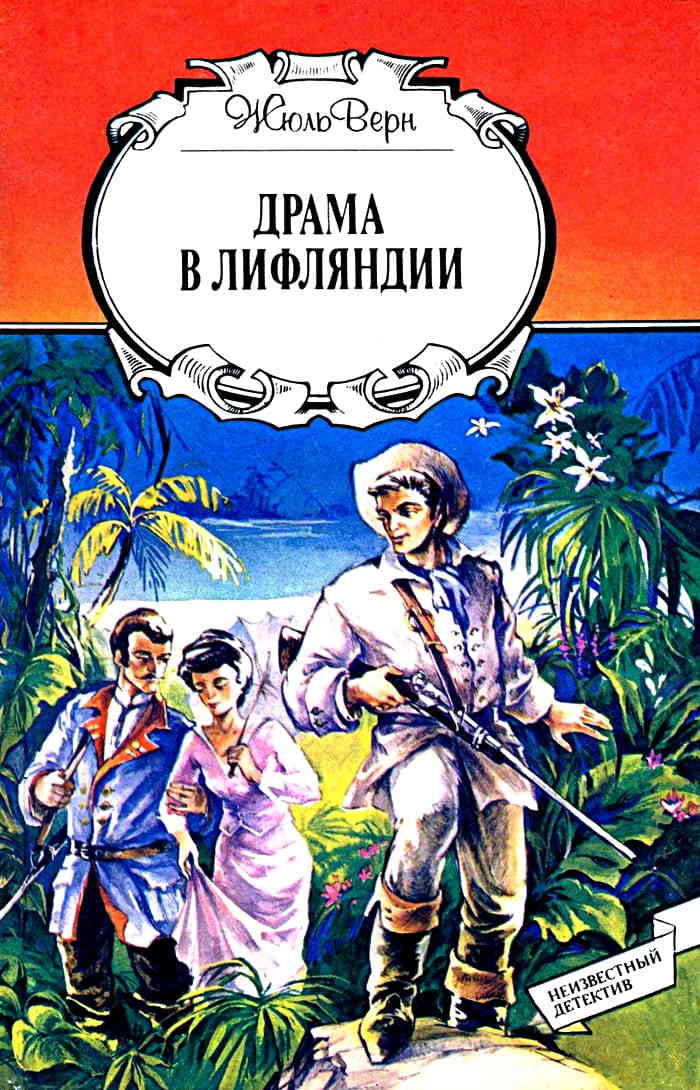 Жюль Верн
Жюль Верн Шилова Юлия
Шилова Юлия Николаев Андрей
Николаев Андрей Прозоров Александр
Прозоров Александр Круз Андрей
Круз Андрей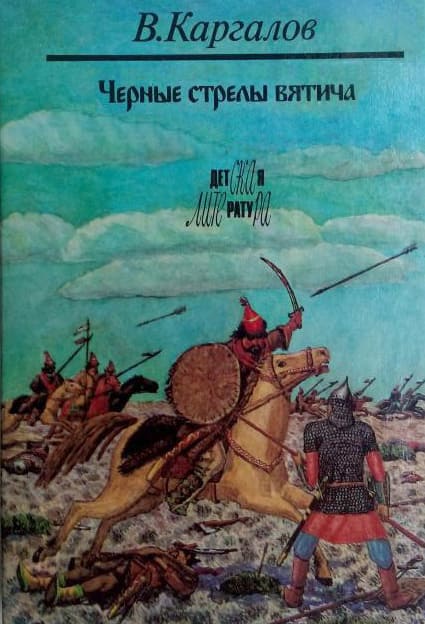 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим