к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча
выводил его из затруднения.
жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и
застенчивость могут быть сущностью притеснителя, что этою
слабостью казнят и милуют, вяжут и решают.
меч и мой народ, как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе. Но
обязательно про народ, непременно. Но, понимаешь ли ты, он был
по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Ведь в
России немыслима эта театральщина. Потому что ведь это
театральщина, не правда ли? Я еще понимаю, чем были народы при
Цезаре, галлы там какие-нибудь, или свевы, или иллирийцы. Но
ведь с тех пор это только выдумка, существующая для того,
чтобы о ней произносили речи цари, и деятели, и короли: народ,
мой народ.
Записывают "наблюдения", изречения народной мудрости, обходят
раненых, строят новую теорию народной души. Это своего рода
новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания
словесного недержания. Это один тип. А есть еще другой.
Отрывистая речь, "штрихи и сценки", скептицизм, мизантропия. К
примеру, у одного (я сам читал) такие сентенции: "Серый день,
как вчера. С утра дождь, слякоть. Гляжу в окно на дорогу. По
ней бесконечной вереницей тянутся пленные. Везут раненых.
Стреляет пушка. Снова стреляет, сегодня, как вчера, завтра,
как сегодня, и так каждый день и каждый час..." Ты подумай
только, как проницательно и остроумно!
претензия требовать от пушки разнообразия! Отчего вместо пушки
лучше не удивится он самому себе, изо дня в день стреляющему
перечислениями, запятыми и фразами, отчего не прекратит
стрельбы журнальным человеколюбием, торопливым, как прыжки
блохи? Как он не понимает, что это он, а не пушка, должен быть
новым и не повторяться, что из блокнотного накапливания
большого количества бессмыслицы никогда не может получиться
смысла, что фактов нет, пока человек не внес в них чего-то
своего, какой-то доли вольничающего человеческого гения,
какой-то сказки.
тебе отвечу по поводу сцены, которую мы сегодня видали. Этот
казак, глумившийся над бедным патриархом, равно как и тысячи
таких же случаев, это, конечно, примеры простейшей низости, по
поводу которой не философствуют, а бьют по морде, дело ясно.
Но к вопросу о евреях в целом философия приложима, и тогда она
оборачивается неожиданной стороной. Но ведь тут я не скажу
тебе ничего нового. Все эти мысли у меня, как и у тебя, от
твоего дяди.
и не больше ли делает для него тот, кто, не думая о нем, самою
красотой и торжеством своих дел увлекает его за собой во
всенародность и, прославив, увековечивает? Ну конечно,
конечно. Да и о каких народах может быть речь в христианское
время? Ведь это не просто народы, а обращенные, претворенные
народы, и все дело именно в превращении, а не в верности
старым основаниям. Вспомним Евангелие. Что оно говорило на эту
тему? Во-первых, оно не было утверждением: так-то, мол, и
так-то. Оно было предложением наивным и несмелым. Оно
предлагало: хотите существовать по-новому, как не бывало,
хотите блаженства духа? И все приняли предложение, захваченные
на тысячелетия.
только ли оно хотело сказать, что перед Богом все равны? Нет,
для этого оно не требовалось, это знали до него философы
Греции, римские моралисты, пророки Ветхого завета. Но оно
говорило: в том сердцем задуманном новом способе существования
и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет
народов, есть личности.
смысла. Христианство, мистерия личности и есть именно то
самое, что надо внести в факт, чтобы он Приобрел значение для
человека.
жизни и миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных
в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь
народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно
было судить и рядить и наживаться на жалости. Полная и
безраздельная жертва этой стихии -- еврейство. Национальной
мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и
оставаться народом и только народом в течение веков, в которые
силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от
этой принижающей зада чи. Как это поразительно! Как это могло
случиться? Этот праздник, это избавление от чертовщины
посредственности, этот взлет над скудоумием будней, все это
родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их
племени. И они видели и слышали это и это упустили? Как могли
они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы,
как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они
останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды
сброшенной. В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому
нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью
столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких
тонких и способных к добру и сердечному общению! Отчего так
лениво бездарны пишущие народолюбцы всех народностей? Отчего
властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко
дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего,
рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся
от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно
за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не
сказали: "Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не
называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь.
Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно
то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас".
13
сказать "твое счастье", ибо какое же это счастье, что нас
опять теснят или поколотили? Дорога на восток свободна, а с
запада нас жмут. Приказ всем военно-санитарным учреждениям
сворачиваться. Снимаемся завтра или послезавтра. Куда --
неизвестно. А белье Михаила Григорьевича, Карпенко, конечно,
не стирано. Вечная история. Кума, кума, а спроси его толком,
какая это кума, так он сам не знает, болван.
не обращал внимания на Гордона, огорченного тем, что он
заносил живаговское белье и уезжает в его рубашке. Живаго
продолжал:
въезжали, все было не по мне -- и печь не тут, и низкий
потолок, и грязь, и духота. А теперь, хоть убей, не могу
вспомнить, где мы до этого стояли. И, кажется, век бы тут
прожил, глядя на этот угол печи с солнцем на изразцах и
движущейся по ней тенью придорожного дерева.
была зловеще озарена. Мимо окна мелькали тени. За стеной
проснулись и задвигались хозяева.
содом, -- сказал Юрий Андреевич.
ходил в лазарет, чтобы проверить слухи, которые оказались
правильными. Немцы сломили на этом участке сопротивление.
Линия обороны передвинулась ближе к деревне и все
приближалась. Деревня была под обстрелом. Лазарет и учреждения
спешно вывозили, не дожидаясь приказа об эвакуации. ВсЈ
предполагали закончить до рассвета.
я сказал, чтобы тебя подождали. Ну прощай. Я провожу тебя и
посмотрю, как тебя усадят.
Пробегая мимо домов, они нагибались и прятались за их
выступами. По улице пели и жужжали пули. С перекрестков,
пересекаемых дорогами в поле, было видно, как над ним зонтами
пламени раскидывались разрывы шрапнели.
второй партией.


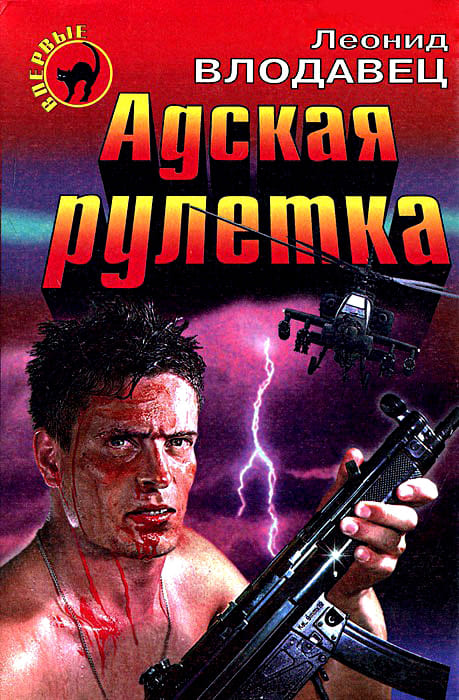


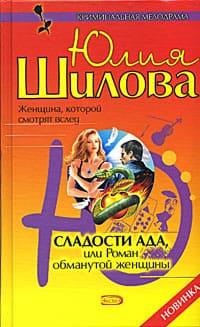
 Бажанов Олег
Бажанов Олег Пехов Алексей
Пехов Алексей Корнев Павел
Корнев Павел Емилина Ника
Емилина Ника Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия