драматической доказательности. Я без этого ему поверю. Мелко
копаться в причинах циклопических событий. Они их не имеют.
Это у домашних ссор есть свой генезис, и после того как
оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не
приложат, кто начал первый. Все же истинно великое
безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо без
возникновения, словно было всегда или с неба свалилось.
существование мира царством социализма. Когда это случится,
оно надолго оглушит нас, и, очнувшись, мы уже больше не вернем
утраченной памяти. Мы забудем часть прошлого и не будем искать
небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с
привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он
окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого.
протрезвился. Но по-прежнему он плохо слышал, что говорилось
кругом, и отвечал невпопад. Он видел проявления общей любви к
нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И
вот он сказал:
заслуживаю. Но не надо любить так запасливо и торопливо, как
бы из страха, не пришлось бы потом полюбить еще сильней.
остроту, а он не знал куда деваться от чувства нависшего
несчастья, от сознания своей невластности в будущем, несмотря
на всю свою жажду добра и способность к счастью.
лица. Зевота смыкала и размыкала им челюсти, делая их похожими
на лошадей.
Показался желтоватый рассвет, мокрое небо в грязных,
землисто-гороховых тучах.
кто-то.
подтвердила Шура Шлезингер.
капающих с деревьев капель вперемежку с настойчивым чириканьем
промокших воробьев.
небо, и все стихло. А потом раздались четыре гулких,
запоздалых удара, как осенью вываливаются большие картофелины
из рыхлой, лопатою сдвинутой гряды.
Вдруг, как электрические элементы, стали ощутимы составные
части существования, вода и воздух, желание радости, земля и
небо.
что-то громко обсуждать на улице, точь-в-точь как препирались
только что об этом в доме. Голоса удалялись, постепенно
стихали и стихли.
Изо всех людей на свете я люблю только тебя и папу.
5
Близилась зима, а в человеческом мире то, похожее на зимнее
обмирание, предрешенное, которое носилось в воздухе и было у
всех на устах.
дни торжества материализма материя превратилась в понятие,
пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопрос.
близящейся неизвестности, которая опрокидывала на своем пути
все установленные навыки и оставляла по себе опустошение, хотя
сама была детищем города и созданием горожан.
хромала, барахталась, колченого плелась куда-то по старой
привычке. Но доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не
могла укрыться ее приговоренность. Он считал себя и свою среду
обреченными. Предстояли испытания, может быть, даже гибель.
Считанные дни, оставшиеся им, таяли на его глазах.
заботы. Жена, ребенок, необходимость добывать деньги были его
спасением, -- насущное, смиренное, бытовой обиход, служба,
хожденье по больным.
будущего, боялся его, любил это будущее и втайне им гордился,
и в последний раз, как на прощание, жадными глазами
вдохновения смотрел на облака и деревья, на людей, идущих по
улице, на большой, перемогающийся в несчастиях русский город,
и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше, и
ничего не мог.
мостовой, переходя Арбат у аптеки русского общества врачей, на
углу Староконюшенного.
старой памяти называлась Крестовоздвиженской, хотя община
этого имени была распущена. Но больнице еще не придумали
подходящего названия:
возмущало доктора, он казался опасным, людям, политически
ушедшим далеко, недостаточно красным. Так очутился он ни в
тех, ни в сих, от одного берега отстал, к другому не пристал.
возложил на него наблюдение над общей статистической
отчетностью. Каких только анкет, опросных листов и бланков ни
просматривал он, каких требовательных ведомостей ни заполнял!
Смертность, рост заболеваемости, имущественное положение
служащих, высота их гражданской сознательности и степень
участия в выборах, неудовлетворимая нужда в топливе,
продовольствии, медикаментах, всЈ интересовало центральное
статистическое управление, на всЈ требовался ответ.
ординаторской. Графленая бумага разных форм и образцов кипами
лежала перед ним, отодвинутая в сторону. Иногда урывками,
кроме периодических записей для своих медицинских трудов, он
писал здесь свою "Игру в людей", мрачный дневник или журнал
тех дней, состоявший из прозы, стихов и всякой всячины,
внушенной сознанием, что половина людей перестала быть собой и
неизвестно что рызыгрывает.
белую краску, была залита кремовым светом солнца золотой
осени, отличающим дни после Успения, когда по утрам ударяют
первые заморозки и в пестроту и яркость поределых рощ залетают
зимние синицы и сороки. Небо в такие дни подымается в
предельную высоту и сквозь прозрачный столб воздуха между ним
и землей тянет с севера ледяной темно-синею ясностью.
Повышается видимость и слышимость всего на свете, чего бы ни
было. Расстояния передают звук в замороженной звонкости,
отчетливо и разъединенно. Расчищаются дали, как бы открывши
вид через всю жизнь на много лет вперед. Этой разреженности
нельзя было бы вынести, если бы она не была так кратковременна
и не наступала в конце короткого осеннего дня на пороге ранних
сумерек.
осеннего солнца, сочный, стеклянный и водянистый, как спелое
яблоко белый налив.
и писал, а мимо больших окон ординаторской близко пролетали
какие-то тихие птицы, забрасывая в комнату бесшумные тени,
которые покрывали движущиеся руки доктора, стол с бланками,
пол и стены ординаторской и так же бесшумно исчезали.
когда-то мужчина, на котором кожа от похудания висела теперь
мешками. -- Поливали его ливни, ветры трепали и не могли.
одолеть. А что один утренник сделал!
загадочные птицы оказались винно-огненными листьями клена,
которые отлетали прочь, плавно держась в воздухе, и оранжевыми
выгнутыми звездами ложились в стороне от деревьев на траву
больничного газона.
человек. И сапоги починит. И часы. И всЈ сделает. И всЈ на
свете достанет. А замазывать пора. Надо самим.


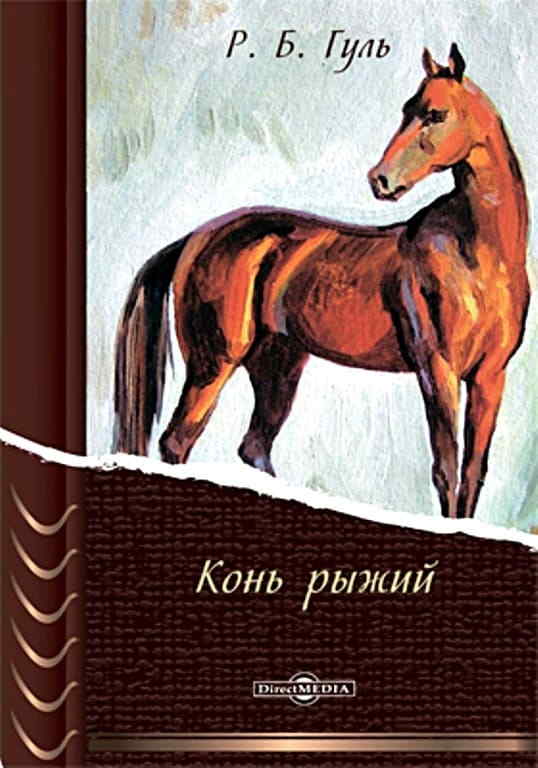



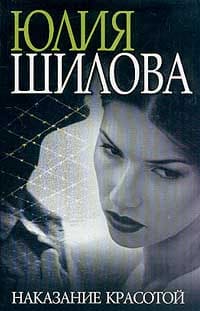 Шилова Юлия
Шилова Юлия Орлов Алекс
Орлов Алекс Ильин Андрей
Ильин Андрей Ильин Андрей
Ильин Андрей Трубников Александр
Трубников Александр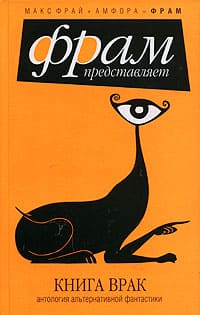 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман