опостылели люди... хриплым голосом, то и дело судорожно сглатывая, она
потребовала, чтобы горничная помогла ей; глуповато-рассеянное, но, в общем,
добродушное лицо горничной сразу стало холодно-враждебным, и рука, что ложку
за ложкой совала в открытый рот фрау Гуттен мелкие кусочки льда, была отнюдь
не ласковой.
на "бега", устроенные впервые со дня отплытия из Веракруса, - и с досадой
увидел, что, несмотря на его прямой запрет, матроса с блуждающей почкой
опять поставили передвигать игрушечных лошадей по беговой дорожке. Вокруг
удобно уселись несколько пассажиров со спокойными, довольными лицами, темные
очки защищали их глаза от слепящих лучей, и они наслаждались солнцем и
свежим воздухом; а больной матрос, вынужденный поминутно наклоняться и вновь
с трудом разгибать ноющую спину, обливался потом, в углах бескровных губ
прорезались глубокие морщины, взгляд был страдальческий. Второй матрос,
крепкий и сильный, не поднимал глаз, словно стыдился своего ребяческого
занятия.
крикливая девица и маленький толстый человечек - сражалась в пинг-понг,
несколько любителей плескались в небольшом парусиновом бассейне,
установленном на нижней палубе. Проходя по левому борту, доктор осторожно
обогнул играющих в шафлборд {Игра наподобие детских "классов".}, кивком
поздоровался с ними, но даже не взглянул на лица; и тут же краем глаза
заметил близнецов-испанчат: Рик и Рэк старались подольститься к полосатому
красавцу - корабельному коту, чесали ему шею, гладили по спине. Кот жмурился
от наслаждения, выгибал спину и не запротестовал, когда близнецы вдвоем
подняли его.
не уловил их истинных намерений, еще миг - и было бы слишком поздно. Лица
детей вдруг стали жесткими, руки - безжалостными, они подняли кота к перилам
и пытались сбросить за борт. Кот весь напрягся, вцепился передними лапами в
перила и стал яростно отбиваться задними. Спина дугой, хвост щеткой, когти,
зубы - все оружие пущено в ход.
не успели выбросить кота; теперь он вывернулся у них из рук и промчался по
палубе, раскидав по дороге плашки игроков в шафлборд - в обычных условиях он
не позволил бы себе подобной неучтивости, это был очень воспитанный кот. Рик
и Рэк, задрав головы, смотрели на доктора, голые руки, исполосованные
кровавыми царапинами, разом ослабли у него в руках.
заглянул им в глаза - безнадежно: ничего не разглядеть в глубине этих глаз,
кроме слепой, упрямой злобы да бессердечной хитрости, а ведь перед ним не
звереныши, а люди. Вот именно, люди, тем печальнее, подумал доктор Шуман и
чуть-чуть разжал пальцы.
свирепые маленькие сообщники, необыкновенно схожие, если не считать
загадочной, неуловимо проступающей в чертах лица меты пола, - и бросились
бежать, только мелькали худые коленки да развевались спутанные волосы.
Порядка ради надо бы хоть йодом смазать царапины, подумалось Шуману, но,
пожалуй, и так сойдет.
ровнее и спокойнее, затихнуть, не шевелиться. Сердце у него никуда не
годилось, и эта весьма заурядная болезнь могла прикончить его в любую
минуту. Легко, двумя пальцами он нащупал пульс, но он уже знал счет; он в
точности знал, что происходит, что всегда случалось и могло случиться от
малейшей нервной встряски или резкого движения; за последние два года он
слишком часто пересматривал эту обыденнейшую историю болезни, ничего нового
тут не скажешь и не придумаешь, а главное, увы, ничего больше не сделаешь.
советоваться с врачами, которых считал более знающими и опытными, хотел бы
верить их предписаниям, но и сам прекрасно понимал, что с ним. В конце
концов, все его познания в медицине не могли связать то, что он знал о себе
как врач, с тем, что чувствовал как обреченный, которому ежеминутно грозит
смерть. Он сидел спокойный и покорный, словно застигнутый бурей в поле, где
негде укрыться, и почти насмешливо прикидывал, есть ли еще сказочная,
неправдоподобная надежда. Наконец очень осторожно пошарил во внутреннем
кармане и достал пузырек с прозрачными каплями.
понимает всю правду о себе и так тверда его решимость протянуть возможно
дольше, разумно применяясь к своей болезни, - как же случилось, что он
рисковал жизнью, чтобы спасти животное, да еще кошку? (Кошек он всегда
терпеть не мог, он по натуре любитель собак.) Будь у него секунда на
размышление, кинулся бы он вот так, рискуя, что не выдержит сердце,
спасать... даже и собственную жену? Судьба никогда не ставила его перед
таким выбором, самая эта мысль, конечно же, нелепа... конечно же, вопрос
давным-давно решен... по крайней мере надо надеяться, что решен! Лицо
доктора Шумана оставалось невозмутимым, но он внутренне усмехнулся:
воображают, будто кошка - хитрейший, хладнокровнейший зверь, а вот поди ж
ты, едва не погиб этот хитрец, одурманенный сладким трепетом нервов и
приятным потрескиваньем электричества в его шерстке. И прославленный
инстинкт не подсказал ему, что его почесывали и гладили не ради его
мимолетного наслаждения, а лишь затем, чтобы легче схватить за шиворот и
погубить для собственного удовольствия.
бывает. Любовь! - подумал доктор Шуман и изумился - это еще откуда? И
тотчас, при всем надлежащем уважении к истинному смыслу этого слова, изгнал
его из своих мыслей. Лучшие годы жизни он провел (и как могло быть иначе,
ведь именно к этому занятию он превосходно подготовился), штопая и латая
обманувшихся, отчаянных, упрямых слепцов, добровольных мучеников, и - что
хуже всего - люди эти прекрасно понимают, что делают и чем это им грозит, и
все же не могут устоять перед жарким соблазном снова усладить свою плоть,
даже если вожделение, ими владеющее, будь то вино, наркотики, похоть или
обжорство, несет им верную смерть.
себе доктор Шуман, моя - в особенности, если я с нею примирился. Он опять
нащупал двумя пальцами пульс и ждал. Ему так страстно хотелось жить - хотя
бы просто дышать, двигаться, оставаться в привычном теле, знакомом и
надежном, как родной дом... и он не мог сдержать волнения, оно прокатилось
внутри горячей волной, как будто он выпил крепкого, терпкого вина.
бежали они одна за другой, не зная ни мыслей, ни чувств, движимые единой
силой, повинуясь гармонии мироздания. - Господи, Господи!
Богородицу деву Марию, веровал истово, безоговорочно, как настоящий баварец
и настоящий католик; и, произнеся имя Божие, которое заключало в себе и все
остальные, он закрыл глаза, положился на милосердие Господне и почувствовал
себя утешенным и успокоенным. Неторопливо отнял пальцы от запястья, перестал
прислушиваться к ударам сердца, которые гулко отдавались в ушах, и на
несколько секунд почти до конца, всем существом своим примирился с близкой
смертью, ощутил мимолетное, но гордое, удовлетворенное презрение к трусливой
плоти. А потом понял, что это подействовали капли, как, бывало, действовали
и прежде, как подействуют, возможно, еще не раз; понял, что приступ был не
тяжелый и уже миновал: снова он ускользнул. Доктор Шуман открыл глаза,
незаметно перекрестился, и тут его поразила сценка, которая разыгрывалась
неподалеку, шагах в десяти.
- настоящий мужчина, могучие, мускулистые руки и плечи, под надвинутой на
лоб бескозыркой простодушное загорелое лицо, большеротое, немного курносое.
Стоит навытяжку, руки по швам, только голову чуть повернул и смотрит в
сторону, лишь изредка мельком, смущенно глянет на женщину. Спиной он почти
касается борта, а condesa стоит перед ним с распростертыми руками, словно
преграждая ему путь к отступлению, и горячо, но неторопливо в чем-то его
убеждает. Большие пальцы прижаты к раскрытым ладоням, и руки размеренно
движутся, будто отбивая такт; черные глаза точно агаты; женщина покачивается
то вправо, то влево, вытягивает шею, старается перехватить взгляд парня. А
он круто отворачивается, потом вновь медленно поворачивает голову и слегка
кивает, словно бы почтительно соглашается, но при этом до крайности смущен и
пристыжен. Condesa похлопала его по плечу - и он подскочил, будто его
ударило током. Рука машинально взлетела к бескозырке, он обошел женщину,
подхватил ведро и швабру и поспешно зашагал прочь, уши его багрово пылали;
минуту-другую condesa стояла не шевелясь. Потом медленно пошла следом, очень
прямая, голова высоко поднята, руки опущены вдоль тела и сжаты в кулаки.
естественное любопытство - почему женщина ведет себя так странно, невольное
восхищение ее удивительной красотой и чисто профессиональный интерес,
который давно стал его второй натурой; итак, доктор Шуман поднялся и делая
вид, что просто прогуливается, на приличном расстоянии последовал за
графиней.
Человек весьма нравственный, он с искренним осуждением наблюдал: как только
condesa замечала мужчину в одиночестве - любого мужчину, будь то простой
матрос, кто-то из корабельного начальства или пассажир, лишь бы только
молодой, - она ухитрялась оттеснить его куда-нибудь в угол, или к стене, или
к борту и подолгу не выпускала, стояла перед ним и что-то говорила все так
же тихо и доверительно, будто делилась некоей мучительной тайной, которая
непременно должна возбудить в слушателе сочувствие.
молодых людей все это подействовало совершенно одинаково. Сперва они слушали
с вежливым вниманием, оно быстро сменялось удивлением, переходило в




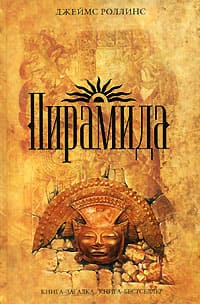

 Лондон Джек
Лондон Джек Пехов Алексей
Пехов Алексей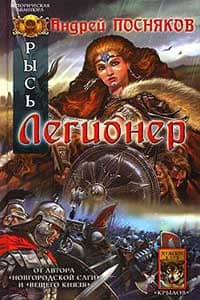 Посняков Андрей
Посняков Андрей Маркелов Олег
Маркелов Олег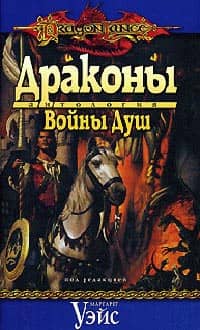 Грабб Джеф
Грабб Джеф Ильин Андрей
Ильин Андрей