почти небрежно, - и он запомнил все до мелочей... он рассказывал ужасные
подробности... одного не мог вспомнить - как он выбрался оттуда живым. Этого
он просто не знал. Странно, правда? Его спасли, усыновили и перевезли в
Нью-Йорк какие-то люди, которых он до погрома никогда не видал, и он начисто
забыл, как это было. Очень разумный, добрый, образованный человек,
преподаватель разных языков; и он производил такое впечатление, точно у него
никогда в жизни не было никаких неприятностей. Прекрасная история, правда?
Он ковырял ноготь большого пальца, и лицо у него было такое, словно его
ударили по голове.
было про это рассказывать.
ты от меня хочешь? Что я могу сделать?
со своим. Оба встали.
Как мило, что вы это придумали.
чувств и излияний. Она знала - если остаться и слушать, поневоле поддашься
слабости, исполнишься участия, пожалуй, еще влезешь в чужую шкуру, чужие
горести и обиды ощутишь как свои и под конец почувствуешь себя виноватой,
будто сама навлекла на него горе и обиды; да и он сам тоже в это поверит и
станет ее во всем винить. Сколько раз уже так бывало, неужели она никогда не
научится уму-разуму? Такие разговоры к добру не ведут, от них плохо и тому,
кто исповедуется, и тому, кто слушает. Нет ни исцеления, ни утешения, слезы
ничего не меняют, и словами не раскрыть правду. Нет, не говори мне больше о
себе, я не слушаю, и ты не заставишь меня слушать. Не хочу тебя знать и не
узнаю. Оставь меня в покое.
когда он перед завтраком встретил Дженни у доски объявлений, она показалась
ему такой свежей и хорошенькой, а ее приветливость такой обманчивой, что он
опять начал злиться: просто неприлично с ее стороны так выглядеть и так себя
вести после всего, что случилось накануне вечером, что бы там ни случилось.
А у Дженни настроение оказалось как нельзя лучше, и притом по очень странной
причине. Проснулась она спозаранку, приснилось что-то такое страшное, что,
уже открыв глаза, она все прижимала руки к груди, боялась отнять их и
увидеть на пальцах кровь. Потом в голове прояснилось, видение рассеялось как
дым, и она уже могла объяснить себе весь ход сна и его связующие звенья. Да,
конечно. Накануне вечером Дэвид торчал в баре, пока не напился до
умопомрачения, потом ходил по пятам за ней и Фрейтагом, крадучись, будто
частный сыщик, собирающий улики для ревнивого мужа. Фрейтаг сразу это понял,
но притворился, будто ничего не замечает. Они опять танцевали и надеялись
ускользнуть, но Дэвид с самым дурацким и злобным видом протолкнулся между
ними и схватил ее за руку выше локтя. Она попыталась было высвободиться,
потом уступила и пошла с Дэвидом, который все сжимал ее руку, точно клещами.
Она еще издали увидела, что он пьян в лоск; а значит, упрям, молчалив,
попросту невменяем, никакого сладу с ним не будет; в такие минуты она его
боялась; лучше пойти с ним, как-нибудь свернуть к его каюте, а уж там она от
него избавится. Но она быстро поняла, что у него совсем другие планы. Он
тяжело опирался на ее плечо, смотрел на нее остекленелым, блуждающим, но
похотливым взглядом и путь держал не к своей, а к ее каюте. Она похолодела
от гнева и отвращения; у своей двери, неожиданно для Дэвида, вырвалась от
него, метнулась в каюту и захлопнула дверь у него перед носом. Он навалился
на дверь плечом, Дженни изо всех сил удерживала ее изнутри. Тут Эльза в
ужасе подскочила на постели с криком:
плохо соображает. Он забыл, что я здесь не одна.
непременно хотелось говорить о любви. Ей страшно влюбиться в неподходящего
человека, призналась она (она захлебывалась словами "любовь", "влюбиться",
точно сладким сиропом, а впрочем, подумала Дженни, может быть, так и надо),
- в красивого студента-кубинца, в того, высокого, который так хорошо поет и
танцует.
послышалось что-то очень похожее на восторженный трепет. - Представляете,
что бы она сказала?
Этот кубинец доставит вам одни тревоги и волнения.
На то и любовь. Тревоги и волнения... - Она глубоко, прерывисто, счастливо
вздохнула, - Ну и пусть! - И прибавила робко: - Наверно, это блаженство -
когда тебя так сильно любят. Ужасно грустно, что вам пришлось его прогнать.
Ну, знаете, это не то слово.
Эльза, и наконец уснула - и во сне вновь пережила то, что видела однажды
средь бела дня, но кончилось все по-другому, словно память соединила вместе
разрозненные клочки и обрывки и тогда прояснился смысл, которого они лишены
были каждый в отдельности. В первый же месяц, когда она только сошлась с
Дэвидом, она поехала автобусом из Мехико в Такско, думала поглядеть там на
один дом. В полдень, под беспощадно жгучим и слепящим солнцем, автобус
замедлил ход: они проезжали небольшой индейский поселок, вдоль дороги
лепились домишки с толстыми глиняными стенами без окон, перед каждым -
голая, чисто подметенная земля. От пыли во рту было горько и сухо, донимала
жара, хотелось уснуть где-нибудь в холодке.
и индианок - молчаливая кучка внимательных зрителей. И когда машина
проезжала мимо, Дженни увидела, на что они смотрят: чуть поодаль боролись не
на жизнь, а на смерть мужчина и женщина. Они топтались на месте, покачиваясь
в странном объятии, словно бы поддерживая друг друга; но в высоко поднятой
руке мужчины был длинный нож, и он уже рассек грудь и живот женщины. Кровь
ручьями текла по ее телу, по бедрам, пропитанная кровью юбка липла к ногам.
А она била мужчину по голове угластым камнем, и его лицо сплошь исполосовали
кровавые струйки. Оба молчали, и на лицах у них, точно у святых, было одно
лишь терпеливое страдание, отрешенное, очищенное от ярости и ненависти
священным, самозабвенным стремлением к единственной цели - убить друг друга.
Левой рукой каждый обвивал другого, и тела их, покачиваясь, льнули друг к
другу, словно в любовном объятии. Каждый снова занес свое оружие, а головы
их опускались все ниже, и вот уже голова женщины опустилась на грудь
мужчине, а голова мужчины - ей на плечо, и так, опершись друг о друга, они
снова нанесли удар.
огромный, нескончаемый день, и яркий свет беспощадного солнца, бессмысленно
веселый бег автобуса, глубокая синева неба, иссиня-лиловые тени гор,
спадающие в долины; и жажда; и тихое попискиванье только что вылупившихся
цыплят в корзине на коленях у соседа, мальчика-индейца. Она и сама не знала
тогда, как ее испугало виденное, пока сцена эта не стала повторяться в
страшных снах, да еще всякий раз в каких-то новых диких поворотах. Но в этот
последний раз она была среди зрителей, словно перед нею разыгрывалось
представление, и две тощие фигурки в белом казались ненастоящими, будто в
резном алтаре деревенской церквушки. И вдруг, к ужасу Дженни, черты их стали
меняться, и вот у них уже другие лица - это Дэвид и она сама, и она смотрит
в залитое кровью лицо Дэвида, в руке у нее окровавленный камень, и нож
Дэвида занесен над ее пронзенной, кровоточащей грудью...
когда она была в восторге от Дэвида и верила, что они любят друг друга...
Дженни чуть не заплакала. Слезы навернулись на глаза - и высохли. Наверно,
она и сейчас любит Дэвида, но непостижимо - что же он-то считает любовью? Ей
всегда казалось, любовь - это нежность, и верность, и радость, и обращенная
на любимого неизменная доброта; ей хочется, чтобы Дэвиду было хорошо и
спокойно, и чтобы у нее самой было легко на душе, - а Дэвид все принимает
как должное, словно пожирает с холодной жадностью и нежность, и доброту, и
однако он сам по себе, он ни в чем ей не открывается и ничего не дает
взамен. Когда она берется за кисти и краски, он дуется, сам не работает,
только слоняется без дела. На ее друзей смотрит косо и сам ни с кем не
дружит. Не хочет слушать с нею музыку, не хочет танцевать, не грустит и не
радуется с нею и не позволяет ей грустить или радоваться с ним; раз уж он не
может войти в ее жизнь, так наладил бы свою, которую могла бы разделить и
она, но нет, он и этого не желает; живет, нарочито замкнувшись в себе, как в
тюрьме, и не дает отпереть дверь.
становился все длинней. С самого начала они решили, что не поженятся: они
должны остаться свободными, а брак - это цепь, мыслящих людей она может
только сковать и унизить; но что же такое их связь, если не брак - и притом
самая худшая разновидность брака: тут и несвобода, и ревность, и все тяготы
брака, но нет ни его достоинства, ни тепла, ни защищенности, ни честности и
прямоты в мыслях и намерениях. Да, пора, пора призадуматься. Она влюбилась в
него по-сумасшедшему, с первого взгляда (почему?) и кинулась в эту любовь
очертя голову, просто не смела колебаться, о чем-то рассуждать. А едва они
стали близки, она чувствовала себя уже не сумасшедшей, а счастливой,
чувствовала, что права в своей любви и до странности привязана к Дэвиду.
Верила, что и он чувствует то же, и по крайней мере год ничуть не
сомневалась, что привязанность эта - подлинная, что это прочно и надолго. У


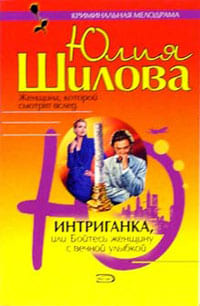



 Акунин Борис
Акунин Борис Шекли Роберт
Шекли Роберт Шилова Юлия
Шилова Юлия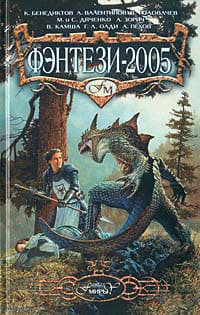 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий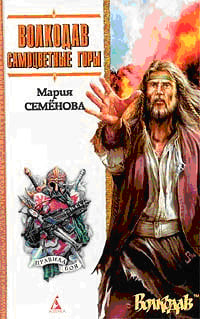 Семенова Мария
Семенова Мария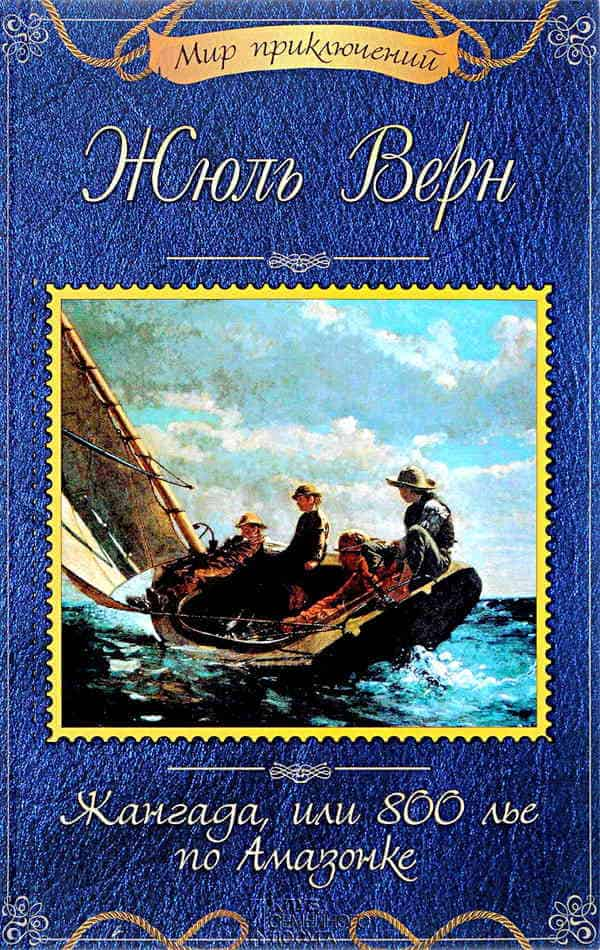 Жюль Верн
Жюль Верн