больше вас слушать, займусь кое-чем более приятным.
белые ноги с маленькими изящными ступнями, отбросила халат и встала перед
Шуманом в легкой шелковой голубой рубашонке, едва прикрывающей бедра.
Подобрала капитанский шаумвейн и пошла к умывальнику. Аккуратно обернула
каждую бутылку полотенцем, немного отступила и с размаху ударила одну, потом
другую о металлический край раковины. Из-под полотенец разлетелись осколки
стекла, пена хлынула сквозь ткань, забрызгала стены, зеркало и ковер на
полу. Condesa разжала руки и кивнула горничной.
дикого зверя. Доктор Шуман не стал ждать, пока его пациентка снова ляжет в
постель, - когда она проходила мимо, он ловко ухватил ее мягкую руку повыше
локтя и мигом вонзил иглу. Condesa вздрогнула от удовольствия, закрыла глаза
и, потянувшись к нему, ласково шепнула на ухо:
лицом тряпкой подтирала пролитое вино, - потом, сдвинув брови, на графиню.
Выпустил ее руку и призвал на помощь нерушимые правила всей своей жизни:
надо же дать отпор такому бесстыдству, такому нежеланию соблюдать приличия.
руки! - сказал он сурово и сам почувствовал, как жалко прозвучали его слова:
не так бы следовало ее отчитать!
подушке и дремотно улыбнулась ему.
чуть не столкнулся с двумя кубинскими студентами, в руках у одного была
бутылка вина, у другого - шахматы. Оба с поклоном посторонились, давая ему
пройти, но доктор тоже остановился и сказал резко, отрывисто:
графине, и теперь я вынужден настаивать, чтобы вы немедленно оставили ее в
покое. Графиня - моя пациентка, и я запрещаю навещать ее по вечерам, а днем
- только с моего особого разрешения. Прошу извинить, - прибавил он не без
злорадства.
на учтивость, подумалось доктору, - и один сказал:
виду. Он отметил про себя их шероховатую и, наверно, грубую и толстую кожу,
нечистые белки глаз - уж наверно, примесь негритянской крови, но что за
важность? - и сразу про них забыл. Опять разыгрались нервы, и он позволил
себе мимолетно, мстительно поразмыслить об этом слабом поле, склонном бить
посуду... разобиженная служанка, оскорбленная женщина из низов, ревнивая
любовница... уж этот слабый пол, во все-то они вносят путаницу, все
выворачивают наизнанку - веру, законы, брак; уж это их двуличие, страсть к
тайным, окольным путям, прирожденная тяга к темноте и ко всяческим дурным
делишкам, которые совершаются в темноте. Интересно знать, кому наносила
удары condesa, разбивая бутылки, - ему, Шуману? Или капитану? Или обоим? Или
еще какому-то мужчине или мужчинам, которые когда-нибудь в прошлом
противились ей, обуздывали ее, приводили в недоумение, отвергали и в конце
концов от нее ускользнули? А может быть, она привыкла одерживать легкие
победы, с легкостью одурачивать простаков? Тут доктор спохватился, произнес
шепотом: "Матерь Божья, спаси и помилуй!" - и перекрестился. И тотчас в
голове прояснилось, словно демоны, которые его одолевали, обратились в
бегство. И он уже спокойно взглянул в лицо случившемуся, словно обдумывал не
свою, а чужую беду: это ожесточение примешивалось к его греховной любви с
первой минуты, ибо он полюбил ее с первой минуты, еще не успев себе
признаться, что, это любовь; и, по мере того как тяжелей становилась его
вина, желание облегчить муки этой женщины постепенно переходило в желание ее
мучить - но только по-иному, пусть бы она почувствовала на себе тяжесть его
руки и его воли... Но почему его любовь стала желанием унизить любимую? Он
ведь хорошо знал, что перед ним не разобиженная служанка и не ревнивая
любовница; она избрала самый прямой и простой, даже трогательный в своей
прямоте и простоте путь для того, чтобы выразить презрение и бросить вызов
всем - капитану, доктору, тем силам, что держат ее в плену. Лицо у нее
оставалось спокойным, и глаза, когда она обернулась и посмотрела на него,
сверкнули насмешкой; она размахнулась бутылками, точно на празднике, когда
спускают на воду корабль. А что она бесстыдно расхаживала в ночной
рубашонке, не стесняясь показывала голые ноги... да просто это означало, что
она его в грош не ставит, будто его здесь и нет или он - не мужчина,
которого надо бы хоть немного остерегаться... будто он импотент и ничуть не
опасен. Известная женская уловка, всем мужчинам это известно, и все же (тут
у доктора подпрыгнуло и чересчур часто заколотилось сердце)... все же это
невыносимо! В смятении он замедлил шаг, полез во внутренний карман за
лекарством.
возразить. - Да разве такая мерзость называется любовью?
кого-нибудь из святых отцов, исповедаться и причаститься. Впервые за долгие
годы он ощущал не надлежащее привычно успокаивающее душу раскаяние, но
подлинный стыд, мучительное унижение - уж очень позорно то, в чем надо будет
признаться. Глупо, глупо, в его-то годы, женатый человек - и в мыслях
гоняется за этой странной женщиной, словно такой вот прыщавый студентишка,
да еще не желает сам себе признаться в своих чувствах, а всю вину сваливает
на нее и в ней ненавидит свой же грех...
шагал тот из двух испанских священников, что посуровей, поугрюмее, - видно,
совершает моцион перед сном. Доктор Шуман выступил вперед, поднял руку.
Хансен на верхней полке шумно воюет с одолевающими его кошмарами, и теперь
одиноко пил кофе в баре. Оттого, что накануне ужин для него пропал, он был
голоден как волк, но и зол пуще прежнего и решил - пускай его посадят за
другой стол, до этого он есть не станет. И когда знакомые фигуры одна за
другой стали выходить на утреннюю прогулку по палубе, он пошел искать
старшего буфетчика.
что одному капитану. Фрейтаг заявил, что хочет до конца плаванья сидеть за
отдельным столиком, так небрежно, будто заказывал стол метрдотелю в
ресторане. Старший буфетчик заглянул в свои списки, словно тут могли
возникнуть какие-то сомнения. Потом постучал карандашом по ладони и в высшей
степени учтиво произнес:
сообщить, что для вас уже все улажено.
- а кто, собственно, это улаживал?
старший буфетчик, в голосе его была почтительность, в лице - едва прикрытая
наглость.
верхней палубе. Навстречу попались Баумгартнеры - жалкая семейка, чахлые,
зеленые, точно их всегда мутит, - хором забормотали: "Guten Morgen... Gruss
Gott... Haben Sie gut geschlafen?" {Доброе утро... здравствуйте... Хорошо ли
вы спали? (нем.)} - он прошел мимо, как последний грубиян, чем оскорбил их
лучшие чувства, и даже не заметил этого, а если бы и заметил - плевать ему
на них, зануды несчастные, да они просто не существуют, у таких нет права ни
на какие чувства. Во всяком случае, к нему пускай со своими чувствами не
лезут. Совершенно ясно, как было дело, думал Фрейтаг, эту свинью Рибера с
безмозглой трещоткой Лиззи понять не хитро: пошли, наверно, к казначею, а то
и прямо к капитану, а уж капитал взял и распорядился свыше, как Господь Бог
с небес, - только и всего. Разница лишь в мелочах, вообще же это не ново, не
впервые с тех пор, как он женился на Мари, его не сажают за стол там, где
прежде он был желанным гостем. Но раньше это случалось, только если он был
вдвоем с Мари. Она молча стояла с ним рядом, элегантная, красивая, стройная,
золотистая, и чуть улыбалась, глядя в сторону, а метрдотель объяснял - он
просит извинить, но нигде не отмечено, что столик заказан: "Конечно, это мы
виноваты, вышла ошибка, очень сожалеем, но сами видите..." - и впрямь, куда
ни погляди, на всех свободных столах в зале красуется табличка "Занято". И
потом на улице, и в такси, и дома он рвет и мечет, но Мари неизменно
сохраняет удивительное терпение. "Я привыкла, а ты нет, - не раз говорила
она ему. - Но ведь я тебя предупреждала, что так будет, любимый, помнишь?
Я-то знаю, куда нам можно пойти, а куда нельзя, так, пожалуйста, слушайся
меня, хорошо?"
пойти со мной, я буду ходить с тобой.
который знает, куда идет. Один из стюардов бросился к нему, будто хотел
преградить дорогу, и, угодливо бормоча, повел к маленькому столику у глухой
стены, подле двери в кухню, - Фрейтаг давно заметил, что там обычно в
одиночестве сидит еврей Левенталь. Он и сейчас там сидел. Стюард с поклоном
подвел Фрейтага к свободному месту, отодвинул для него стул, развернул и
подал салфетку и предложил меню - и все это так быстро, что Левенталь едва
успел выбрать по карточке обед и поднять глаза.



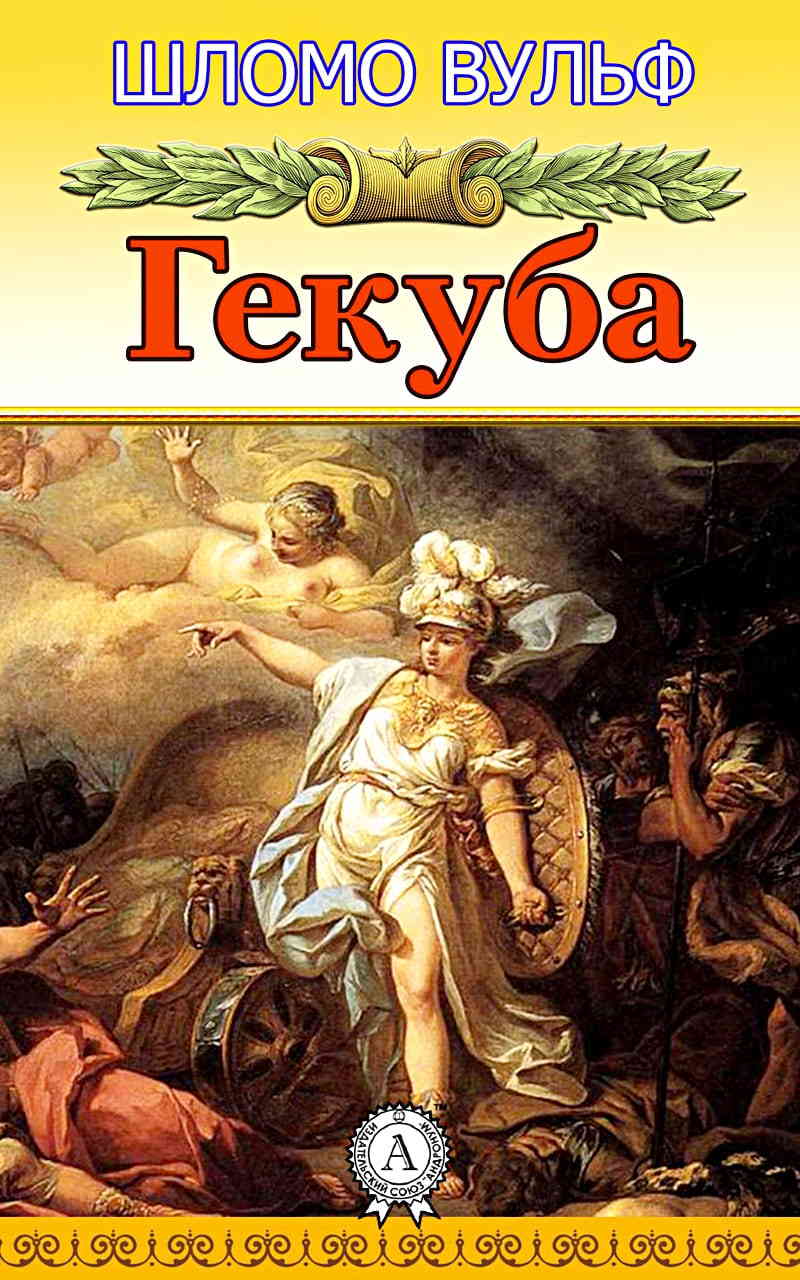
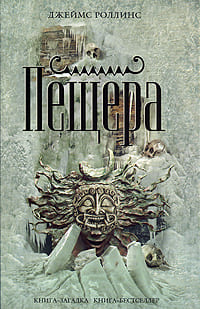

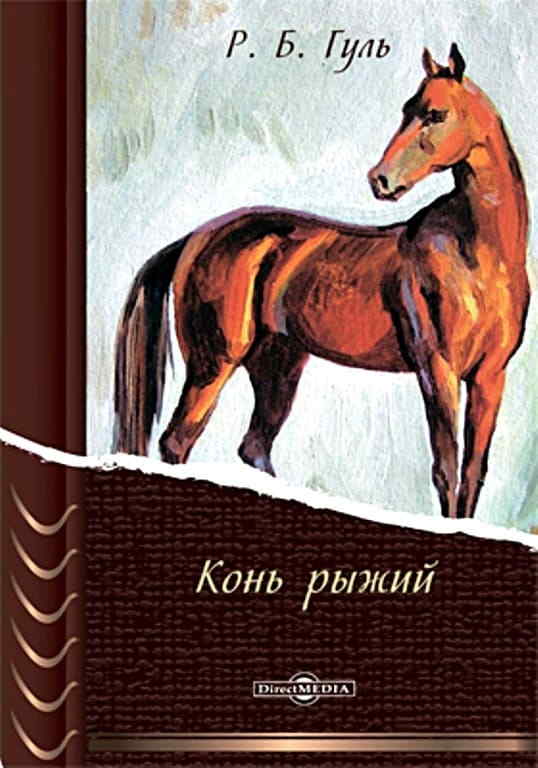 Гуль Роман Борисович
Гуль Роман Борисович Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия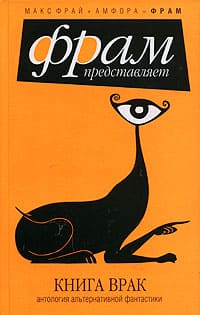 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Плотников Александр
Плотников Александр