здесь годы, десятилетия жизни. От постоянных раздумий о заводском бюджете,
платежах, чековых книжках лица их стали настороженными, взгляды
подозрительными, души недоверчивыми. Но такими женщины становились лишь
переступив порог бухгалтерии, а за пределами завода опять превращались в
хлопотливых домохозяек, мечущихся между магазинами и на ходу обменивающихся
важными сведениями: куда завезли картошку, как достать масла, хватит ли
молока, если мотануться в дальний магазин, где, по слухам, оно было еще
полчаса назад.
возвышался громадный Сейф, отлитый, похоже, еще в прошлом веке. Своей
тяжестью он перекосил все заводоуправление - со стороны было видно, что
крыло, где располагалась бухгалтерия, примерно на полметра ушло в землю.
Внутри пол кое-как выправили, но само здание так и оставалось перекошенным.
В стене возле Сейфа была прорублена дыра в коридор, и через нее кассир Света
Лунина выдавала управленцам зарплату каждое второе и семнадцатое число.
усаживались поудобнее, готовясь заняться финансовыми делами завода.
направляясь к своему кабинетику. Была она женщина полная, можно даже
сказать, очень полная, но подвижная, быстрая в движениях. Она постоянно
помнила о чрезмерной своей полноте, и от этого настроение у нее всегда было
подпорченным.
прекрасная погода! Желтые листья на деревьях стали полупрозрачными и
светятся на солнце... - Анфертьев чувствовал, что Зинаида Аркадьевна вот-вот
перебьет его, что в своих владениях она не вынесет этой осенней крамолы, и
торопился нанизывать слова на некий шампур, сверкающий солнечным лучом в
сумрачной комнате бухгалтерии. - Да, листья, покрытые изморозью, стали
похожи на сотенные купюры...
самом величании по имени-отчеству слышалось пренебрежение, преувеличенными
почестями она как бы ставила человека на место. Никто не осмелился
поддержать Вадима Кузьмича в его восторгах, а лишь когда Зинаида Аркадьевна
скрылась за своей дверью и заворочалась, заворочалась в тесной клетушке,
натыкаясь на стол, стул, звеня графином - любила главбух выпить утречком
стакан-другой холодной воды, - только Света Лунина подала голос:
невежливость начальства.
сумел усесться рядом с Луниной - это было его обычное утреннее место.
одернула манжеты белой блузки, которую куда вернее назвать мужской рубашкой,
только размер у нее был небольшой, скорее всего сорок четвертый.
такое?
Анфертьев невольно залюбовался ее лицом. Легкий пушок на щеках светился,
Вадим Кузьмич не удержался и несколько раз щелкнул внутренним своим затвором
и навсегда спрятал в себя изображение Светы. Потом он часто будет
рассматривать эти портреты - темный свитер, белые уголки воротника, мягкую
волну волос, смущенный взгляд девушки, которая, конечно же, понимала, что
Анфертьев смотрит на нее куда внимательнее, нежели требовалось для невинной
беседы, впрочем, это видели все обитатели бухгалтерии.
просяще.
быстро коснулся пальцами рукава свитера, белой манжеты, свежего маникюра...
в рассеянности похлопал ладонью по прохладному боку Сейфа, по его облезлой
стенке, выкрашенной когда-то под мрамор. Краска во многих местах отвалилась,
обнажив железную сущность этого угрюмого предмета первой необходимости любой
бухгалтерии.
ведомости.
выдохнул, чем произнес, услышали все женщины. Оглянувшись, Вадим Кузьмич
увидел улыбающиеся, еще не изувеченные денежными расчетами лица.
появилась она в проеме своего кабинета - широко расставленные ноги, мощная
квадратная фигура, тяжелое, неподвижное лицо.
поднялся, ухватившись за медное кольцо Сейфа - этот штурвал, послушный
тонким пальцам Светы. Он покрутил его вправо, влево, подергал, но без ключа
кольцо оставалось неподвижным. - Так ли уж важно, кого я назову, - повторил
Анфертьев, - если в любом случае вы меня осудите. - Подобрав полы плаща, он
протиснулся между столами к своей каморке.
подписывала чеки на оплату проявителей, закрепителей, бумаги, пленки и
прочих нехитрых фотопокупок. Иногда, правда, подписывать отказывалась, и
никто на заводе, включая самого Подчуфарина, не мог заставить ее поставить
свою малюсенькую, заверченную подпись. Анфертьев понимал, что его фотозаботы
никак не влияют на производственные показатели завода и главному бухгалтеру
удобно показать неограниченную финансовую власть именно на нем, на
фотографе. Если на важных платежах директор все-таки настаивал, то беды
фотографа его не беспокоили, и он позволял Зинаиде Аркадьевне вести себя с
ним как ей заблагорассудится.
препоны, чинимые Зинаидой Аркадьевной, позволяли ему ссылаться на трудности,
нехватку препаратов, пленки, еще чего-то очень важного. Даже для директора
эти причины были вполне уважительными, и, поворчав для видимости, объявив
Анфертьеву выговор, тоже для видимости, он успокаивался, прекрасно понимая,
что не от качества фотографий зависит прочность его директорского положения.
А Зинаида Аркадьевна знала, что зловредностью она оправдывает промахи не
только Анфертьева, но и Подчуфарина, являя пример истинной жертвенности.
Да-да, своим квадратным телом главный бухгалтер закрывала бреши,
образованные директорской нерасторопностью, нехваткой металла и горючего,
безграмотным проектом, сверхсрочным заказом... Да что там говорить, все мы
знаем, из чего складывается производственная жизнь, от чего она зависит. На
любом предприятии должен быть человек, на которого можно валить грехи. Здесь
таким человеком была Зинаида Аркадьевна. Что делать, так принято. И не
только на заводе по ремонту строительного оборудования, не правда ли,
дорогие товарищи?
пружинку, надавил на нее, и дверь открылась. Вообще-то она открывалась бы и
без ключа, стоило лишь слегка нажать на нее, но в каморке хранились
кое-какие материальные ценности, и Анфертьев соблюдал заведенный порядок,
показывая бухгалтерии повышенную ответственность за вверенное
фотооборудование. Войдя в комнату, он тут же закрыл за собой дверь и,
прислонившись спиной к стене, постоял с минуту. Потом безошибочно протянул в
темноте руку и, нащупав кнопку, включил сумрачный и таинственный красный
свет - свет алхимиков, гаишников и фотографов.
всех нас, непонятная и в чем-то даже крамольная. Их действия над белым
листом бумаги отдают колдовством, и возникает на листе совсем не то, что они
фотографировали, что все мы видим при ясном свете дня. Они получают
изображение, необходимое им для каких-то своих целей. Кто знает, не водятся
ли они с лешими, нетопырями, василисками и прочей нечистью, кто знает, о чем
шепчутся они в красноватых сумерках, царящих в их кельях, какие заклинания
твердят, какие силы вызывают...
видоискателе, в перекрестье нитей, добейтесь резкости... Есть? Теперь
коснитесь спусковой кнопки, слегка надавите на нее... Ну что? Чувствуете
мистическую дрожь в пальцах? Это он. И холод в груди, будто она пробита,
будто сквозняк в вашей груди, будто запродали вы уже свою душу, и несутся,
несутся сквозь нее черти на бесовский шабаш! А посмотрите на человека,
которого вы собрались фотографировать, - он не в себе, он мечется, не зная,
как стать, каким боком повернуться, куда взглянуть. Он понял, что вы заодно
с потусторонними силами и его будущее зависит от вас, от того, в какой миг
вы нажмете эту дьявольскую кнопку. И потомки будут судить о нем по тем
картинкам, которые вы изготовите в качающихся ванночках при красном свете,
отгороженные от глаз людских плотными стенами и черными шторами. Да что там
потомки, его друзья, его жена и дети скажут, взглянув на эти чертовы снимки:
"Так вот ты какой, оказывается, а мы-то думали..." Или рассмеются, поняв его
пустоту и глупость, а может, ужаснутся, увидев на снимках человека, готового
переступить через что угодно...
тускло мерцающий в полумраке стул, невидяще скользнул взглядом по черному
увеличителю, по бликам красного стекла, по банкам, в каждой из которых
таилась странная жизнь, таились судьбы, и в его власти было выпустить их,
дать проявиться, свершиться, утвердиться. Но сейчас Вадим Кузьмич был далек
от всего этого - он пристально рассматривал свою ладонь, помнившую холод
ручки Сейфа, небольшого массивного колеса, вытертого миллионами касаний
человеческих рук. И плечо, которым он оперся о Сейф, тоже хранило память о
железном сундуке, изготовленном сто лет назад ему на погибель. Неужели


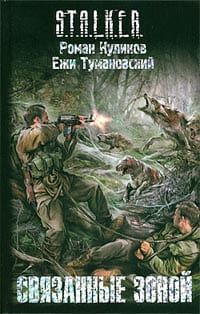



 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей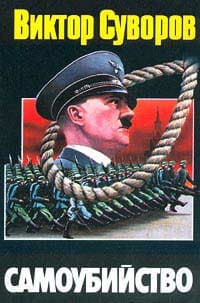 Суворов Виктор
Суворов Виктор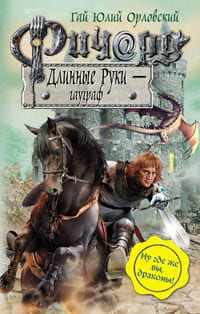 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Акунин Борис
Акунин Борис Контровский Владимир
Контровский Владимир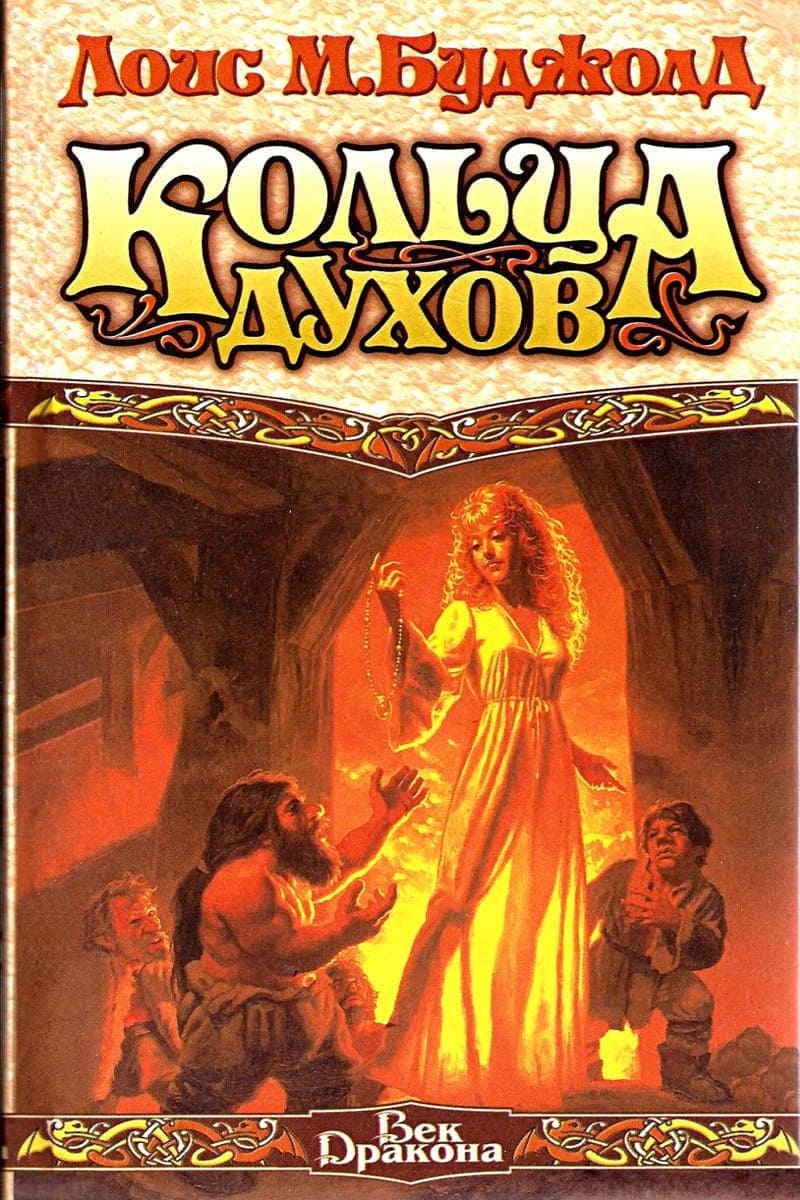 Буджолд Лоис
Буджолд Лоис