часто именно по прозвищу их знали больше, вот бабку Пелагею всегда
называли Козой, а вот высокую и тощую старуху рядом с ней - Екатерину
Анисьевну (сейчас она робко подцепила вилкой очередной кусочек селедки),
до сих пор прямую словно жердь, сколько помнил себя Василий, всегда
называли Анисихой. А вот эту толстенькую, разрумянившуюся от водки и еды
Марию Андреевну, еще до войны лихо водившую трактор, так и прозвали
Чумазой. Василий украдкой оглядывал их и тотчас, как только они замечали
его внимание, отводил глаза, он чувствовал с ними нечто общее, и это было
не в прошлом и не в том, что все они были родом из этого затерянного в
русской глухомани поселка Вырубки. Их связывало сейчас нечто более крепкое
и более вечное, но что это было, Василий не мог определить и, стараясь
уйти от мешавших сосредоточиться на основном мыслей, стал думать о
завтрашнем дне, о многих делах, что было необходимо успеть завтра сделать.
Затем старухи долго, с интересом расспрашивали Василия о болезни и кончине
Евдокии, охали и крестились, и Василии, хотя это было ему тяжело и
неприятно, коротко и скупо отвечал, затем махнул рукой, и все замолчали.
все ли в порядке, но его тотчас остановили.
поселке-то ни души более не осталось, все тут, - очертила она рукой округ
стола.
что теперь, теперь и по весне трактор доползет... А то как, бывалоча, воды
по весне грянут, так и сидим на морю, во все концы одна вода, а мы
посередке.
усмешке щербатый передний зуб и сразу стал еще проще и ближе. - Уж
кажется, где только не побывал, и по Северу, и в Сибири, а такого, братцы,
не встречал.
полез...
себя под подбородком концы темного, в белую горошинку платка. - Ты нас с
собой не равняй, вот они-то, молодые, все и разбрелись по белу свету. А
нам куда?
вмешалась толстая бабка Чумазая, прославленная раньше затейница и
непоседа. - У нас во-оля, так куры и ходят кругом - во-оля...
- Проезжали, что-то я ни одной не заметил...
выставляя вперед острый, морщинистый подбородок, бабка Анисиха. -
Неразумные, поди, говоряткурица вроде дура, а курица - птица с умом, к
вечеру она - на нашест, на нашест-пырх тебе! - и сидит, чистит перышки! А
ты когда подкатил? А ты к вечеру подкатил! Во-о-о! Пырх - и сидит!
бабка Пелагея. - Лисица, проклятая,завелась где-тоть. Да, стервья, -
искрой-то, искрой, да такая хитроватая, да такая верткая, искрой тебе,
искрой! На той неделе у кумы Агафьи петуха на глазах уволокла, мы стоим
судачим, и петух тут, рядом, важный, золотистый, гребень-то к весне весь
малиновый набряк, аж набок свесился. А она тут, стервья, из-за плетня, как
молонья, - скок! Только перья полетели, а петуха и нету уже, у меня прямо
ноги обомлели. Кума, говорю, кума, это ж она-стервья! "Ох, - говорит она,
- чтоб ей..." - да с тем и заплакала, уж какой петух был, какой петух!
дерганьем головы вверх пожаловалась бабка Анисиха. - Хоть бы мужик с
ружьем, а? А там эти все от водки - во-о! - все распухшие, все
ольгоколики! Каждый в присест по ведру в себя! Во! Все в гогот-го-го-го!
Ты, бабка, грят, не туды! Лисица, грят, одна на всю губернию! Сейчас,
грит, лисица-во-о! Под охранной печатью, грит! А что петух? Их, петухов,
тьма-тьмущая, грит, под ликтричество комарьем из болота выскакивают! Во
грит! Ольгоколики проклятущие, из глаз-то и то самогонкой разит! У нас тут
летом гости наезжают, - вспомнила бабка Анисиха, в мягкой задумчивости
глядя куда-то поверх головы Степана. - Внучку привозят из самой Тулы, э
прошлый раз самовар привезли, пряников привезли целую коробку. А вон к
ней, - указала она острым подбородком на толстую, с одобрением и интересом
слушавшую бабку Чумазую с еще больше раскрасневшимися круглыми щеками, -
так прямо из Москвы дочка с двумя огольцами приезжает. А в прошлом году
прямо на своей машине всей семьей, с мужиком, с зятем Володькой -
анженером, прикатили. Почитай, все лето грибы собирали да в речке
плескались... А раков-то, раков половили, как пойдут, так ведро тебе, как
пойдут-так ведро!
их нагоняют, - вставила свое и бабка Пелагея. - Все пустые хаты
позанимают, день и ночь галдеж!
и гульбища, а в прошлую осень так свадьбу справляли! То-то было диво!
притихли, словно задумались о чем-то своем, самом сокровенном.
бабка Пелагея.
Убирают бегом! Налетят воронами, все поклюют, все перекопают! Глядишь,
нету никого, нет ничего! Господи прости, анчихристы!
бок всего сразу не кинешь! "Раньше, раньше!" А что раньше? А теперь пенсию
каждый месяц тебе домой! Такая-сякая гражданка бабка Анисиха, просим
получить денежки, а? То-то и оно! А кто нас тут, в пустом поселке, держит?
У всех у нас в городе кто-то есть, меня вон сын аж в Ленинград звал... а?
То-то и оно!
далеким и неприступным лицом сказала бабка Пелагея, и все старухи разом
встали и прошли к покойнице, почти тотчас и Василий и Степан невольно
вздрогнули.
немыслимого страдания голосом затянула бабка Пелагея. - Да куда ж ты ушла,
моя горемычная подружечка, а меня бедовать на этом свете оставила? Да
возьми меня в свою сторонушку невозвратную, уж ноженьки не ходють и
глазоньки от слез совсем обессилели! Уж я...
На него обрушился теплый густой ветер, и он, подставляя ему горевшее
каким-то особенным жаром лицо, пошел по мертвой улице, и, когда
остановился уже за поселком, непроглядная темень, разрываемая яростными и
веселыми порывами ветра, пласталась вокруг, и тут он понял, что за то
время, пока он был под крышей, небо затянуло плотными, стремительно
несущимися тучами, мелкой водяной пылью ему плеснуло в лицо, и дождь
больше не прекращался. "Не выберется завтра Степан на дорогу", - тревожно
подумал он и тотчас забыл, все мысли и тревоги заслонило какое-то
пьянящее, безрассудное чувство слияния с беспросветной и стремительной
ночью, с этой землей, бесконечно родной сейчас, захлестнутой весенней
тьмой, плотно насыщенной несущейся водяной пылью. Ему было жарко, и сердце
сгорало в какой-то первобытной муке. В неистовстве ветра он слышал сейчас
то, чего не дано, да и нельзя слышать человеку, и, потрясенный, готов был
остаться здесь навсегда и раствориться в этой безжалостной ночи, во все
сметающей прочь перед собой и оставляющей за собой лишь нетронутое,
готовое принять неведомые семена и дать неведомые всходы поле. И то, что
не умещалось сейчас в нем, разрывало ему душу, и он, жалко всхлипнув от
страха, что все это безумие и счастье промчится мимо него и исчезнет
бесследно, пошел, задыхаясь, в густой мартовский ветер, пытаясь продлить
это безумно прихлынувшее торжество души, и он услышал нежные, серебряные
звоны, как когда-то в самом раннем счастливом детском сне.
сбросил в сенях намокший дождевик и, повесив его на крюк, вошел, старухи,
уже опять сидевшие рядком за столом, увидев его в дверях, враз повернули к
нему головы, и он, пряча то, что пришло к нему, отвел в сторону словно
промытые, налитые густым светом глаза, и все поняли, что спрашивать ни о
чем нельзя. Он подошел к горящей печи и стал греть руки, от мокрого
пиджака повалил пар.
Пелагея. - Простуду, гляди, подхватишь.
прогрейся...
- Нам все одно спать нельзя, душу провожаем, во...
он выпил, затем, как в полусне, стащил с себя сапоги, сбросил набрякший
тяжелый пиджак, забрался на широкую лежанку, где уже уютно похрапывал
Степан, выставив вверх колени, стянул штаны и в одном белье с наслаждением
лег на начавшие теплеть кирпичи. Он спал и не спал, он чувствовал, как
чьи-то заботливые руки подсунули ему под голову подушку, а сверлу прикрыли
почти невесомым от старости байковым одеялом, он затих, наслаждаясь теплом
и покоем, и приглушенные голоса старух, коротавших за столом долгую ночь в
разговорах, все отдаляются и отдаляются, но совсем не меркнут, и это даже
не голоса, а что-то вроде огромного неба и шелест теплого, грибного,
слепого, как говорили у них в поселке, дождя. А солнце по-прежнему светит,
и весь мир объяла сине-малиновая радуга, одним концом на далекий лес,
другим в речку-воду в небо тянет. Он почувствовал запах свежести,
приподнял голову, по она тут же упала на подушку, и теперь радуга


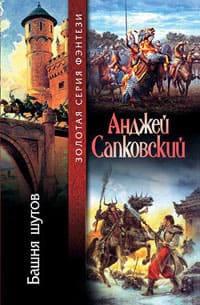

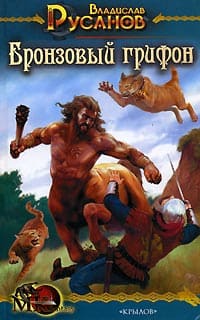
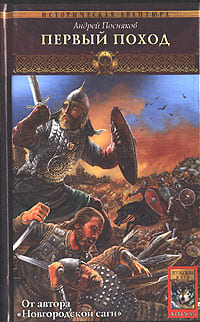
 Пехов Алексей
Пехов Алексей Свержин Владимир
Свержин Владимир Лукин Евгений
Лукин Евгений Корнев Павел
Корнев Павел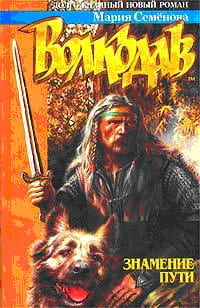 Семенова Мария
Семенова Мария Земляной Андрей
Земляной Андрей