землянках пробавляются, а тут все уцелело, даже жестяной конек на крыше,
ребятишки как радовались, когда Герасим прибивал эту свою детскую выдумку.
Все уцелело, а хозяина, мужика - больше нет, вот словно кто взял и вынул
душу, теперь хоть живи, хоть умирай.
пальцем острие и стала рубить хворост, наваленный рядом, она же сама за
зиму и натаскала его из лесу на салазках. Она рубила методично и ровно,
сильно взмахивая топором, и не заметила сгустившейся окончательно темноты.
Что-то отвлекло ее внимание, она оглянулась. Оба ее сына, и Васек, и
особенно вытянувшийся за последний год Костя, стояли рядом и молча
смотрели на нее. Страх, слепое бабье отчаяние и нежность захлестнули ее
душу, у младшего, у Васька, были совершенно отцовы глаза, добрые, светлые,
в минуты гнева словно вспыхивающие изнутри угрюмым, колючим огнем.
извещении, в дом к Евдокии набились соседки, родные, все приходили,
рассаживались, ни слова не говоря, по лавкам, пришла и кума Пелагея, и
тетка Анисиха, и чумазая Катька-трактористка, обычно веселая, неунывающая
баба, полная и круглая телом, ее никакая нужда, никакая война не брали,
пришел и древний дед Агей, и уже вернувшийся по чистой однорукий Федор
Климентьев, тотчас и выбранный в Вырубках председателем.
из рук в руки, рассуждали, что до этой Прохоровки совсем ведь рукой
подать, верст сто, не больше, а потом потихоньку разговорились. Стали
вспоминать, какой Герасим Крайнев был добрый кузнец и хозяин, кума Пелагея
вспомнила, какую ей кум Герасим тяпку сделал-до сих пор износу нет, а
остра, как бритва, дед Агей поддакнул, что мастер Герасим был
первостатейный и что никто так не умел наварить пятку на порванную косу.
Слушая, Евдокия крепилась, крепилась, да и не выдержала, потекли
непрошеные слезы. Плакала она на этот раз тихо, что-то словно облегчало и
размягчало ей душу, и отпустило захолонувшее сердце, она поглядывала на
сыновей, старавшихся не пропустить об отце ни одного слова. И Евдокия
покорилась жизни, и душа ее отмякла, соседи и родные разошлись, ночь
прошла, и дни покатились в непрестанной работе, казалось, одинаковые.
Работала в колхозе, ежедневно вскапывала свою норму в пять соток, Костя,
как и все его сверстники, тоже пахал на добродушном трофейном немецком
битюге по кличке Чалый, силенок у него для такой тяжелой, мужской работы
было маловато, и Евдокия жалела его, подсовывала за обедом, ужином кусок
побольше да получше, по вечерам Евдокия возилась у себя в огороде. Сегодня
сеяла морковку и свеклу, завтра огурцы, сажала лук, помидоры, капусту, еще
до зари вскакивала, чтобы до колхозной работы полить грядки, приготовить
какой-нибудь завтрак, похлебку из молодой крапивы, щавеля, горсти ржаной
муки да мелко растертого круто сваренного куриного яйца, все мечтала о
новине, когда пойдет молодая картошка, огурчики, лучок...
майское разнотравье захватывало леса, луга, запустевшие за войну поля.
Цвели сады, словно облитые бледно-розовым пламенем, яблони на заре
одуряюще пахли. Вишенье уже начало облетать, густо устилая парившую землю,
завязь все сильнее обсыпала деревья.
время от времени придерживаясь за поясницу, с трудом выпрямлялась,
отдыхала, рядом с ней билась над своей нормой кума Пелагея, чуть подальше
Аниснха, от леса начинал тянуть ветерок, и было приятно подставить ему
взмокшее лицо и грудь. Над лесом все усиливалась и расползалась тяжелая
синева, а там и неясное, далекое еще погромыхивание услышала Евдокия и тут
же, оглянувшись, наметила рядом на лугу, к которому спускалось поле,
густой куст разросшегося ивняка на случай грозы и дождя, в небе над лесом
вспыхнула молодая трехцветная радуга, и теперь стала отчетливо видна
вызревающая, непрерывно клубящаяся, пронизываемая беззвучными пока
извивами молний грозовая туча. Все на глазах менялось: воздух стал
плотнее, по цветущему лугу пошли переливаться волны густой травы, от
темневшей тучи над лесом в остальном небе синь стала еще гуще и как бы
ярче, уже во всем ясно обозначилось противоборство не подвластных никакому
предвидению слепых сил, томление от этого распространялось на все живое.
Исчезли бабочки, примолкли птицы, и только неутомимые ласточки, собравшись
в одном месте, беспорядочно и густо чертили небо. Ударил первый порыв
ветра, и тополя вокруг бывшего помещичьего сада, высаженные в два ряда,
враз склонились острыми вершинами в одну сторону и беспокойно застонали.
она повернула голову, и что-то невыносимо острое вошло в сердце.
беспорядочно трепало ветром. - Скорей! Скорей садись!
сердце, мешавшим дышать, она шагнула к повозке, споткнулась и
остановилась, беспомощно придерживая разрывавшуюся грудь.
сила словно перебросила Евдокию с одного места на другое, она уже сидела в
повозке, ухватившись помертвелыми руками за решетку, и повозка уже мчалась
по полю, затем по ухабистой дороге, а дед Агей безжалостно, не переводя
дух, стегал лошадь кнутом, и теперь Евдокия уже спрашивать ни о чем не
могла. За повозкой вслед со всего поля побежали бабы, но до поселка было с
версту, и они скоро отстали, а дед Агей все гнал хрипящую лошадь и ни разу
не повернулся к Евдокии, ни разу не взглянул на нее. Они успели. Уже
собравшиеся у крыльца люди при виде Евдокии поспешно, не сводя с нее глаз,
расступились, говор смолк, и она прошла через этот живой пропустивший ее и
вновь сомкнувшийся проход в дом, старший, Костя, накрытый до подбородка
белой скатертью, лежал в горнице на большом дубовом столе, сделанном еще
до войны Герасимом для праздников, чтобы можно было побольше усадить
гостей.
войны по чистой, еще кто-то был в горнице. Тяжело и просто пахло кровью.
навстречу, - на пахоте, мина проклятая... коня в куски...
ближе и ближе. Она подошла вплотную, осторожно подняла скатерть, весь низ
живота у Кости был толсто обмотан каким-то тряпьем, всем, что попало под
руку мужикам. Задавив рвущийся крик, даже не изменившись в лице при виде
расползавшегося на глазах по неуклюжей повязке густого кровавого пятна,
она опустила край скатерти.
должны быть.
по-мужски загрубеть ладонью и уже больше не отпускала ее. Кто-то придвинул
ей табурет, и она села. Васек, напуганный и жалкий, хотел было
протиснуться к ней поближе, но она не заметила его и даже отстранила от
себя, как нечто чужое и ненужное, она не отрывалась от невероятно белого,
какого-то мраморного, почти светящегося лица старшего. И ни сын, ни мать
ни на что больше не обращали внимания, они сейчас не могли нарушить той
последней и нерасторжимой связи, что установилась между ними незримо для
других, для них существовала и была важна только эта последняя связь, и
это уже не было смертью, не было даже отчаянием или прощанием, это было
нечто такое, что могли понимать и чувствовать только они двое.
бессознательно стараясь этим как бы из себя перелить в сына неостановимо
иссякающую в его теле жизненную силу. - Скоро доктора привезут, уже
поехали...
самом деле не больно. - Вот дышать плохо... нечем.
водички.
терять свой цвет), и он с трудом глотнул воды, происходило нечто такое,
чего нельзя было объяснить, никто не разговаривал, стояла тяжкая тишина, и
Васек тоже боялся шевельнуться.
Костя, и Евдокии показалось, что он глядит куда-то сквозь нее. - Пусть они
у него будут...
губами, Евдокия, и сердце у нее сжала какая-то непереносимая жуть.
теперь словно лучащихся и огромных глаз.
последняя преграда.
поскорей, - добавил он уже совсем невнятно, и почти сразу что-то
случилось, Васек, пятясь, увидел, как брат (тал мучительно что-то хватать
губами. Он искал воздуха и не находил его и сразу вытянулся, затих и
больше не шевелился. И только тогда Евдокия, непривычно чужая, почти
тяжелая в своем просветленном спокойствии в общении с вечностью,
шевельнулась и, не отнимая своей руки из мертвых уже рук сына, второй
рукой потянулась и закрыла ему глаза. И тогда кто-то из баб невыносимо и
долго закричал. Все вздрогнули, и только Евдокия медленно-медленно
повернула голову, и под ее взглядом опять все стихло.
И Васек под ее взглядом тоже попятился и вышел, он не мог произнести ни
слова, и когда к нему, чтото тихо говоря, потянулась соседка, тетка
Пелагея, он в страхе отскочил в сторону и, не разбирая дороги, бросился в
сад, затем в огород, в поле, прямо в сверкающий майский дождь и гул, в




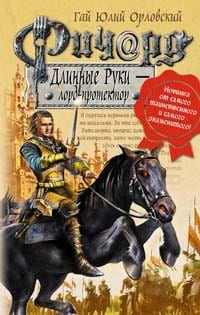
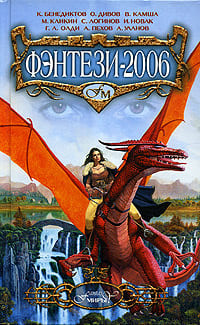
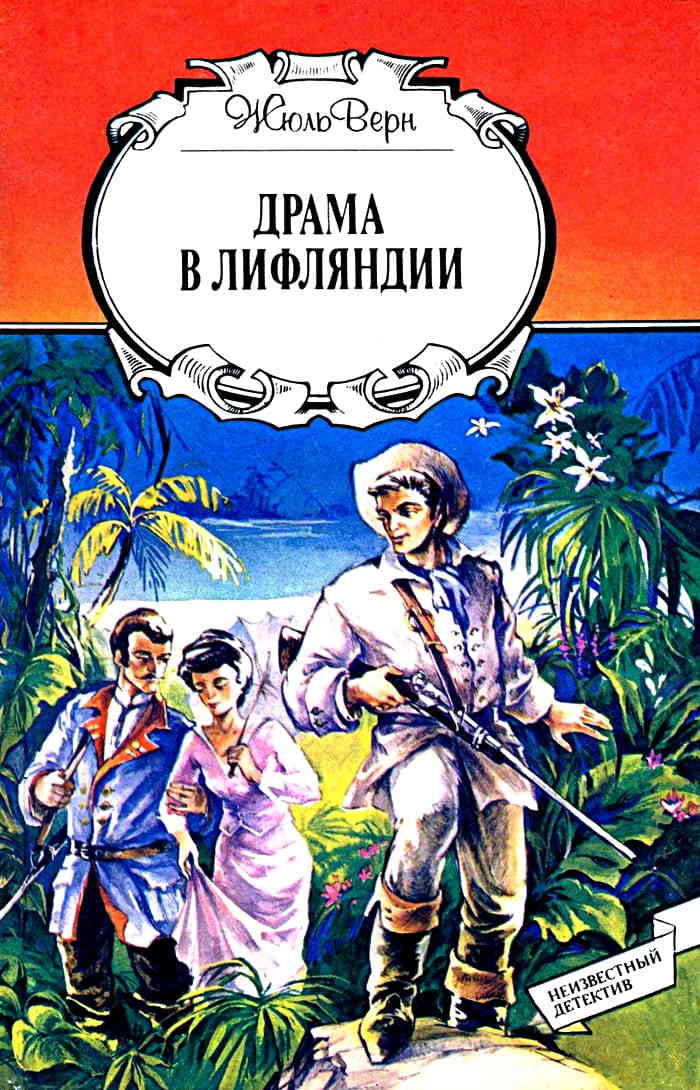 Жюль Верн
Жюль Верн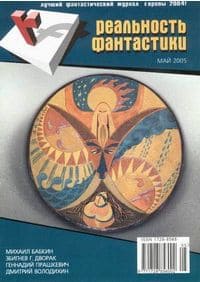 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий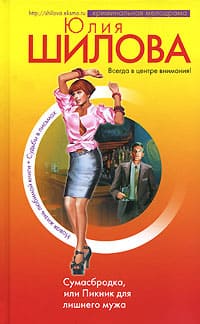 Шилова Юлия
Шилова Юлия Никитин Юрий
Никитин Юрий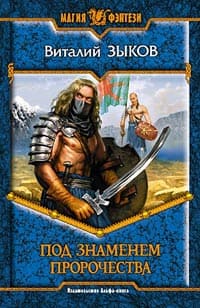 Зыков Виталий
Зыков Виталий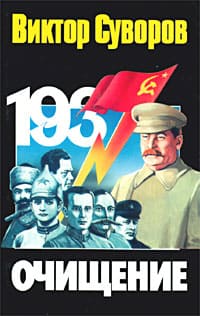 Суворов Виктор
Суворов Виктор