чудное теплое солнце...
надвигается танк, вминает в колею хрустящие траки. Хочется вскочить,
убежать, забиться/в соседний овраг. Но он остается, пропускает над собой
тяжкую черную тушу...
роса под ногами. Он сжимает слабую материнскую руку, чувствует се остывающую
жизнь. И такая в нем возникает боль и любовь, стремление передать ей свою
горячую силу, нежность, продлить на земле ее пребывание...
Кто-то кричит, сквернословит. Напротив растерзанная пьяная девка, ее губы в
расцелованной яркой помаде, ее синий, водянистый, как у пойманной рыбы,
глаз...
Отъезжающий с рубиновым огнем тучный зад "мерседеса". Какие-то сытые
чернявые люди в длинных теплых пальто...
его щуплое тело, и рябит, приближается стена кирпичного дома...
восстановить целостность изображения, ухватить его главный, единый во всех
проявлениях смысл.
звук, посвист ее лопастей указывали вектор атаки.
указанию, они отвели его в дальний угол комнаты, усадили на груду
стариковских одеял. Сами уселись рядом, и он не отпускал их, обнимал,
удерживал подле себя.
Кудрявцев тянулся на этот звук. Своим оглушенным разумом, своей
поколебленной волей из последних сил стягивал воедино расколотый мир.
Свинчивал, окружал обручами, не давал разорваться на бесчисленные дробные
множества. И это ему вдруг удалось.
имеющая выражения истина. Словно поднялось и встало, заслоняя окно, огромное
крылатое диво. Заглянуло к ним в комнату сияющими очами. Накрыло его, и
женщину, и измученного солдата ворохом шумных крыльев, заслонило от гибели.
грузовик. Над площадью вскипел, полыхнул кудрявый огненный шар. Взрыв
отломил полдома, рассыпал по площади кирпичную пыль, завитки растерзанной
кровли, множество мелких, не имеющих формы клочков, многие из которых
горели, как бесчисленные фитильки.
открылось перед ним лишенное стен пространство. Сквозь качающиеся перекрытия
и балки, отлетающую пыль и душный вихрь сгоревшего аэрозоля обнажилась
снежная площадь, зеленоватая лепнина вокзала, темный перрон и струнка
стальной колеи. И по рельсам, размахивая бело-синим флагом, с негромким
"ура" бежали морпехи, черные, в беретах, постреливая автоматами.
могли выговорить, какое-то неизъяснимое слово.
Глава двадцатая
шатром колокольни. Мимо в поля уходила дорога, наезженная, в тракторных
рубцах, усыпанная навозом, с желтой стайкой перелетавших овсянок. За храмом
туманился синий заснеженный сад в заячьих следах и сугробах. Под стенами
небольшое кладбище пестрело красными и белыми крестами, серебряными
оградками, в которых осели придавленные снегом венки бумажных цветов.
оград. Вокруг белые, глазированные, словно натертые ветром, расстилались
поля. В них блуждали прозрачные поземки, катились далекие сани, и
замороженный лес, как синий плавник, торчал на бугре.
расходился. Задерживались у дверей, крестились, напускали стужу. Мелькая под
окнами платками и шапками, тянулись по домам.
нездоровым, терпеливо ждал, когда разойдутся прихожане, чтобы удалиться в
алтарь, снять с себя тяжелое негнущееся облачение, шитое золотой нитью, и,
заперев храм, отправиться домой. Дома матушка станет лечить его горячим чаем
с калиной, уложит на теплую лежанку, набросает сверху одеял и тулупов, и он
в легком жару станет дремать и думать о сыне Гаврюше, попавшем на чеченскую
войну. Больше недели, как нет от него известий. Матушка, слушая радио, тяжко
вздыхает и украдкой плачет.
полосатые половики, нарядные коврики, белые, ручной работы, рушники на
иконах и еловые зеленые ветки, на которых радениями прихожан были развешаны
елочные игрушки.
распятия, у киота светились лампады. Одна, самая большая, из старинного
малинового стекла, в золотом оперении, горела перед Архангелом Гавриилом,
изображенным в рост на длинной доске в момент, когда, развеяв голубой плащ,
складывая напряженные от полета крылья, он встает на пороге перед Девой
Марией, донося ей Благую Весть.
окажется один, чтобы предстать перед ангелом и помолиться о сыне.
и странница, всю жизнь пропадавшая по дальним монастырям и приходам.
Маленькая, с аккуратным горбиком, в клетчатом суконном платке, из-под
которого глядели синие детские глазки. Поклонилась, подставила под
благословение руки, корявые, как выдолбленное из дерева корытце.
Там, говорят, батюшка Иоанн Крестьянкин шибко заболел. Хочу еще разок его
навестить, исповедаться.
голову. -- Сама уж стара, бабушка Марфута. Не остудись в дороге.
еще раз среди света и снега, окруженная розовым паром.
в работах руку. Седые волосы его торчали хохлом, шапку он держал в здоровой
руке, другая, поврежденная, была спрятана под пальто.
работать? С голоду помрем. Ты уж помолись, я на храм пятьдесят тысяч дал.
же сходи. Она тебе в пузырек пустырник нальет. От него кости лучше
срастаются.
на выход, переставляя прямые, как жердины, ноги. Его непокрытая голова
мелькнула среди солнца и снега, окутанная паром.
Андреевна, вся в черном, как монашка, остроносая, юркая, похожая на галку.
Приняла благословение и тут же строго стала выговаривать:
Сюда не греться приходят, а Богу молиться. Небось дома погреются! Вы,
батюшка, Афанасию скажите, пусть дрова бережет. За них деньги церковные
плачены!
огарки погашены и брошены в коробку для воска, все ли иконки и книжицы
прибраны и заперты в конторку, -- засеменила к выходу. Крестилась у дверей,
а потом вышла наружу, туда, где в зимнем солнце летали над дорогой галки.
Подскочила, смешалась с ними и канула.
просторной церкви, где еще витали тени прихожан, дымы от кадила, песнопения
и молитвы. Эта намоленность держалась под сводами среди росписей и икон,
медных паникадил как живое бестелесное облако, как теплое дыхание.
запах, подошел к окну. Был тот час зимнего короткого дня, когда солнце
утрачивает белизну, серебристость, краснеет, увеличивается, приближается к
полям, отчего на дороге зажигаются длинные слюдяные волокна, обозначаются
золотистые следы от саней, словно на снег налепили фольгу.
низинами, замерзшей рекой, кустистыми темными ивами и заваленными снегом
отдаленными деревнями, в которых жил, предавался трудам, топил печи,
старился и рождался народ. Грешил, мучился, роптал на непосильную жизнь, пил
горькую, провожал новобранцев и в краткие часы отдохновения пел в застольях
тягучие песни или дремал на печах среди вьюг и звездных ночей.
ему посильно помочь. Не понимал, почему так горестно, столетье за столетьем,
протекает русская жизнь. Иногда тайно роптал на то, что Бог, сберегая другие
народы, награждая их безбедным бытием и достатком, насылает на русских
людей, трудолюбивых, терпеливых и добрых, такие напасти. Перебирал в памяти
события родной истории и не находил в народе греха и прельщения, за которые
можно было карать. Не понимая причины народных страданий, молился перед
коричневым образом Богородицы.


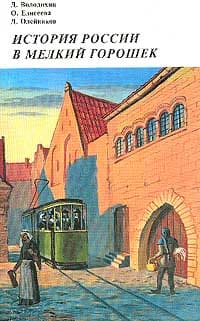
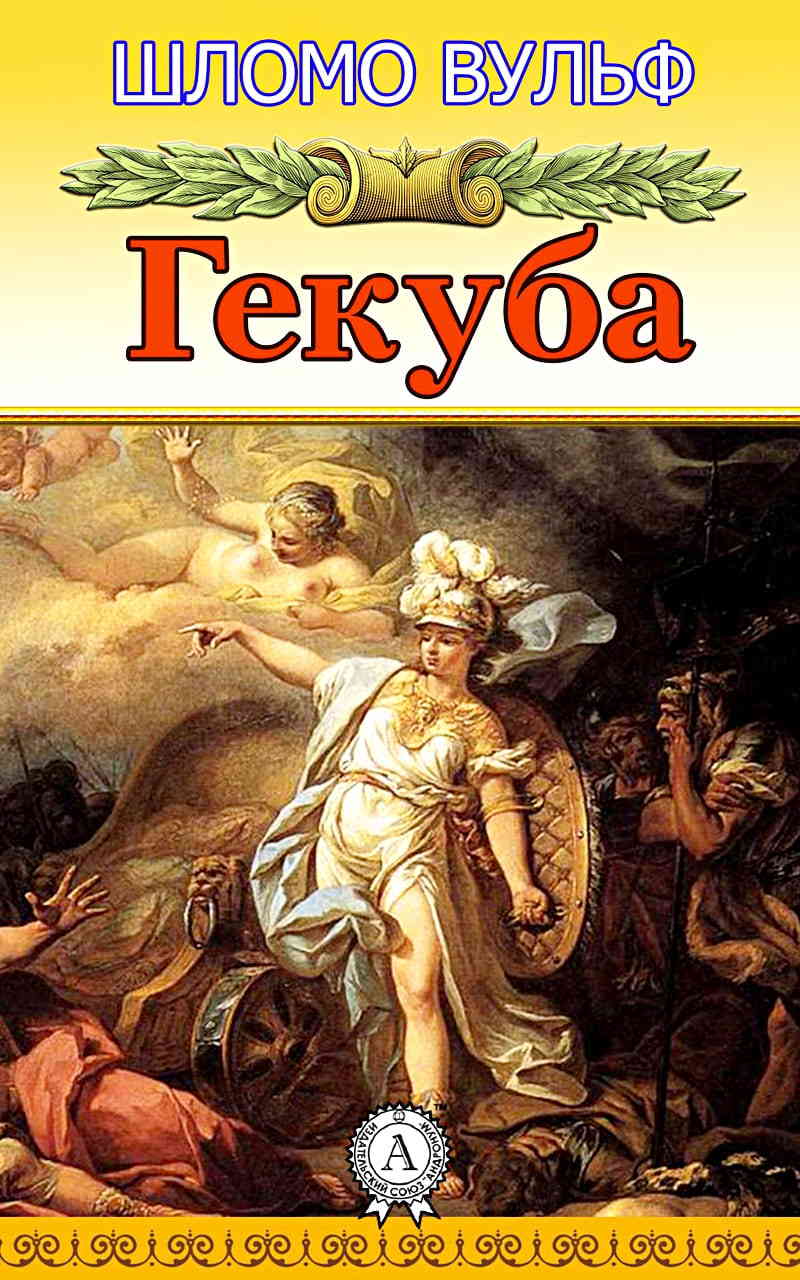
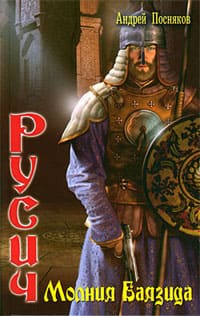

 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей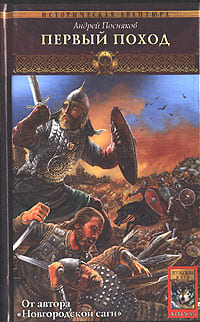 Посняков Андрей
Посняков Андрей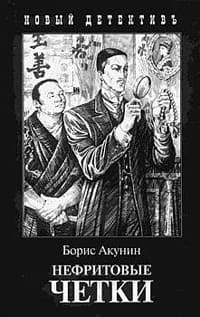 Акунин Борис
Акунин Борис Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна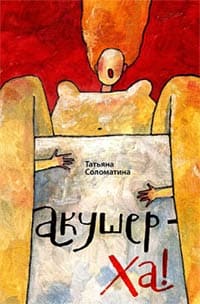 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна