Валентин Распутин
Прощание с Матерой
Повесть
Повести, изд-во "Молодая гвардия", Москва, 1980.
OCR и вычитка: Александр Белоусенко (belousenko@yahoo.com)
1
И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя
для Матеры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и
страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденнo
открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу
бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по
земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки
и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все
это бывало много раз, и много раз Матера была внутри происходящих в природе
перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили
огороды - да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным
городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы,
когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба - да не на
всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где
поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как
пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми
добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матера
и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на
дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут
коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как
подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте, да
не все так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в
опустевших избах и растворились ворота во дворы - их для порядка закрывали,
но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило,
скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились
стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски - поправляющая,
подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним.
Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже
увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено
для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно
оставались теперь в Матере только старики и старухи, они смотрели за
огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во
всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они
сходились вместе, негромко разговаривали - и все об одном, о том, что будет,
часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за
Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.
Тот первый мужик, который триста с лишним лeт назад надумал поселиться
на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше
этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст и не
узенькой лентой, а утюгом, - было где разместиться и пашне, и лесу, и
болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матерe
близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой.
Подмога - понятно: чего нe хватало на своей земле, брали здесь, а почему
Поднога - ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно.
Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней,
тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко -
Богодул, так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово
это на хохлацкий манер как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего
началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский
мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в
сердцах: богохул, а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули
язык и переделали в богодула. Так или не так было, в точности сказать
нельзя, но подсказка такая напрашивается.
Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности
вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали к
ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую стороны; везли по воде
арестантов и, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему:
разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня
грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами,
которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в
Матере срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в котором в
последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Богодул.
Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду, а над Подмогой
- она была положе и ровней - и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары,
голод, разбой.
Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте,
хорошо видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору
приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще
раньше, но крест на возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему
поклоны. Потом и кроет сбили. Была мельница на верхней носовой проточке,
специально будто для нее и прорытой, с помолом хоть и некорыстным, да
нeзаемным, на свой хлебушко хватало. В последние годы дважды на неделе
садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился
летать по воздуху.
Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего мeста на яру у левого
берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими
поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и
края бегущей воде, нeт и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались
другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня,
перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем
мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что
дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для
электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит
многие земли и в том числе в первую очередь, конечно, Матеру. Если даже
поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой,
и места потом не показать, где там силились люди. Придется переезжать.
Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света,
которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через
год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала
определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в
судьбе Матеры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на
правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все
ближние и даже не ближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не
возиться с хламьем, пустить под огонь.
Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.
2
Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая
из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий
разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет своих в точности никто
из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных
записях, которые потом куда-то увезли - концов не сыскать. О возрасте
старухи говорили так:
- Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет
родилась. - Это Дарья Настасье. - Я уж в памяти находилась, помню.
- Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.
- Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была - оглянись-ка! Ты ишо
без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.
- Я помню.
- Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.
Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних
воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в Матеру случайным ветром меньше
десяти лет назад,- в Матеру из Подволочной, из ангарской же деревни, а туда
- откуда-то из-под Тулы, и говорила, что два раза, до войны и в войну,
видела Москву, к чему в деревне по извечной привычке не очень-то доверять
тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то
непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и
что, если рядом жила? - в Москву, поди, всех подряд не пускают. Сима, не
злясь, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое, за что
схлопотала прозвище "Московишна". Оно ей, кстати, шло: Сима была вся
чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого
порой под настроение тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе.
Судьба ей, похоже, и верно досталась не сладкая, если столько пришлось
мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную и ту
немую девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на
руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не
потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за
которым могла бы ходить - стирать, варить, подавать. Именно по этой причине
она и попала в свое время в Матеру: услышав, что дед Максим остался бобылем
и выждав для приличия срок, она снялась из Подволочной, где тогда жила, и
отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось: дед Максим
заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли: дед хоть
никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорей
всего деда Максима напугала Валька, немая Симина девка, в ту пору уже
большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, чего-то
постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне





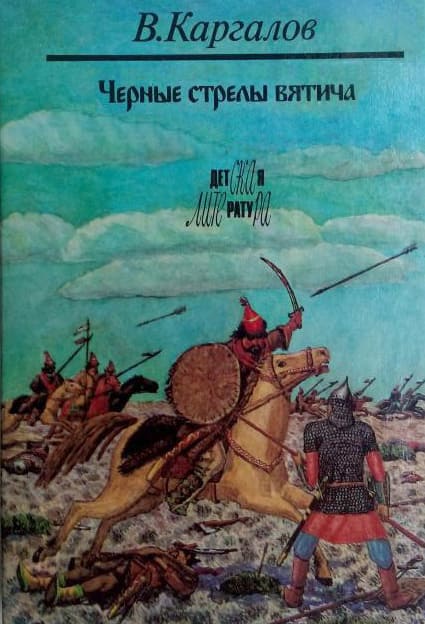
 Посняков Андрей
Посняков Андрей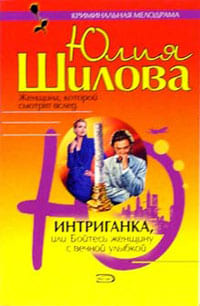 Шилова Юлия
Шилова Юлия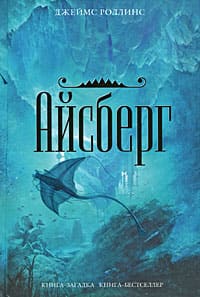 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс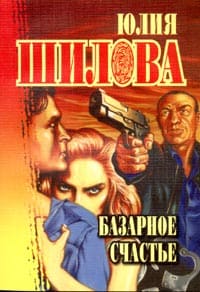 Шилова Юлия
Шилова Юлия Василенко Иван
Василенко Иван Витковский Евгений
Витковский Евгений