отвечаю.
потому, если позволите, подожду возвращения ваших родителей.
дело пошло несравненно легче. Милейший ксендз, и прежде учивший Ганю, не
только согласился продолжать и углублять ее образование, но и меня
похвалил за ревностную заботу.
возложенных на тебя обязанностей, хотя ты молод и сам еще дитя, и это
весьма похвально, однако помни: будь столь же постоянен, сколь ревностен.
присвоил, скорей забавляла его, нежели сердила. Старичок видел, что во
всем этом было много ребячества, но что побуждения мои честны, поэтому он
гордился мной и радовался, что семена, зароненные им в мою душу, не
погибли. Впрочем, старый ксендз вообще питал ко мне слабость; что же
касается меня, то если вначале, в годы раннего детства, я всем существом
его боялся, то теперь, становясь юношей, все больше добивался его
симпатии. Он очень любил меня и позволял распоряжаться собой. Ганю он тоже
любил и готов был как только мог облегчить ее участь, так что с его
стороны я не встретил ни малейшего противодействия. У мадам д'Ив было, в
сущности, доброе сердце, и хотя она немножко сердилась на меня, но Ганю
тоже окружила заботами. Таким образом, на недостаток любящих сердец
сиротка не могла пожаловаться. По-иному стала к ней относиться и прислуга:
не как к товарке, а как к барышне. С волей старшего сына в семье, будь то
даже ребенок, у нас очень считались. Этого требовал и мой отец. Против
воли старшего панича можно было апеллировать к самому пану или к пани, но
без их полномочия нельзя было ей противиться. Нельзя было также с
младенческих лет называть старшего сына по имени, а непременно <паничем>.
Прислуге, так же как и младшим братьям и сестрам, постоянно внушалось
уважение к старшему, и это отношение оставалось потом на всю жизнь. <На
этом семья держится>, - говаривал мой отец, и действительно благодаря
этому в нашей семье издавна сохранялся добровольный, а не установленный
законом порядок, в силу которого старший сын получал большую долю
наследства. То была семейная традиция, переходившая из поколения в
поколение. Люди привыкли смотреть на меня как на будущего своего
господина, и даже старик, покойный Миколай, которому все разрешалось и
который один только звал меня по имени, и тот в известной мере этому
подчинялся.
она вместе с доктором ночи напролет проводила в деревенских хатах,
подвергаясь смертельной опасности, а отец, всегда дрожавший за нее, тем не
менее не запрещал ей этого, твердя: <Долг, прежде всего долг>. Впрочем, и
отец, несмотря на свою суровость, многим оказывал помощь: нередко прощал
невыполненный оброк; случалось, и долги платил за крестьян, - и хотя от
природы был вспыльчив, легко смягчался и не наказывал за провинности. Не
раз он справлял в деревне свадьбы и крестил младенцев; нас учил уважать
людей, да и сам всегда снимал шапку, когда ему кланялись мужики. Мало
того, даже частенько обращался к ним за советом. Зато и передать
невозможно, как сильно были привязаны мужики ко всему нашему семейству,
что впоследствии они неоднократно доказывали самым убедительным образом.
это бывает и бывало, а во-вторых, чтобы показать, что в моих усилиях
превратить Ганю в <паненку> я не встретил никаких затруднений. Наибольшее,
хотя и пассивное, сопротивление оказывала она сама: робость и чрезмерная
почтительность к <господам>, которую привил девочке Миколай, мешали ей
примириться со своим новым положением.
похороны его съехалось довольно много соседей, пожелавших почтить память
старика, который снискал всеобщее уважение и любовь, хотя был просто
слугой. Схоронили старца в нашем фамильном склепе, а гроб его поставили
подле гроба деда моего, полковника. В течение всей церемонии погребения я
ни на минуту не покидал Ганю. Она со мной приехала в санках, и я хотел,
чтобы она со мной же вернулась, но ксендз Людвик велел мне подойти к
соседям и пригласить их с кладбища заехать к нам - погреться и закусить.
Тем временем с Ганей остался товарищ мой и друг Мирза-Давидович, сын
жившего по соседству помещика Мирзы-Давидовича, татарина и магометанина,
предки которого поселились у нас в незапамятные времена и давным-давно
получили здешнее гражданство и шляхетское звание. Мне пришлось сесть с
Устжицкими, а Ганя с мадам д'Ив и молодым Давидовичем поехала в других
санях. Я видел, как этот славный малый укутал ее собственной шубой, потом
взял у кучера вожжи, крикнув, погнал лошадей, и они помчались как вихрь.
Вернувшись домой, Ганя ушла в горенку деда плакать, а я не мог поспешить
за ней, так как вынужден был вместе с ксендзом Людвиком принимать гостей.
седьмом классе и должен был у нас остаться до конца рождества, чтобы
вместе со мной готовиться к экзамену на аттестат зрелости, но, так же как
и я, собирался немного заниматься, а больше ездить верхом, стрелять из
пистолетов в цель, фехтовать и охотиться - занятия, которые мы оба заметно
предпочитали переводам <Анналов> Тацита и Ксенофонтовой <Киропедии>. Мирза
был веселый малый, сорванец и озорник, вспыльчивый, как искра, но в высшей
степени симпатичный. В доме у нас все его очень любили, кроме отца моего,
которого сердило, что молодой татарин стрелял и фехтовал лучше меня. Зато
мадам д'Ив души в нем не чаяла, потому что по-французски он говорил, как
парижанин, и, не закрывая рта, болтал, острил и развлекал француженку
лучше нас всех.
обратит его в католическую веру, тем более что Мирза нередко подшучивал
над Магометом и, вероятно, с охотой отрекся бы от Корана, если б не боялся
отца, который из уважения к семейным традициям стойко придерживался
магометанства, твердя, что ему, как старому шляхтичу, более пристало быть
старым магометанином, нежели вновь обращенным католиком. Впрочем, ни в чем
ином симпатии старого Давидовича к татарам и туркам не проявлялись. Предки
его поселились здесь чуть ли не во времена Витольда. То был также очень
зажиточный шляхетский род, издавна осевший в своем гнезде. Поместье,
принадлежавшее им, было пожаловано еще Яном Собеским полковнику
пятигорской легкой конницы Мирзе-Давидовичу, который творил чудеса
храбрости под Веной и портрет которого еще поныне висел в Хожелях. Помню,
портрет этот произвел на меня странное впечатление. Полковник Мирза был
страшный человек; лицо его, исполосованное бог весть чьими саблями,
казалось исчерченным таинственными письменами Корана. У него была смуглая
кожа и широкие скулы, а раскосые, мрачно горевшие глаза его обладали
удивительным свойством: они всегда смотрели на вас с портрета, где бы вы
ни стояли: прямо перед ним или в стороне. Но товарищ мой Селим ничем не
походил на своих предков. Мать его, на которой старик Давидович женился в
Крыму, была не татаркой, а уроженкой Кавказа. Я ее не знал, но говорили,
что была она красавица из красавиц и что Селим похож на нее как две капли
воды.
скошены. Но то были не татарские глаза, а большие черные печальные глаза с
поволокой, которыми, говорят, отличаются грузинки. В минуты покоя глаза
его полны были такой несказанной неги, какой я в жизни не видел и больше
не увижу. Когда Селим о чем-нибудь просил, подняв на вас глаза, казалось,
они просто хватали за сердце. Черты лица у него были правильные и
благородные, словно точенные резцом ваятеля, кожа смуглая, но тонкая, чуть
выпуклые, алые, как малина, губы, мягкая улыбка и зубы, как жемчуг.
довольно часто, мягкость его исчезала, как марево, и он становился почти
страшен; глаза его суживались и горели, как у волка, мышцы лица
напрягались, кожа темнела, и на миг в нем пробуждался настоящий татарин,
тот самый, с которым наши предки вступали в бой. Продолжалось это очень
недолго. Через минуту Селим уже плакал, целовал своего противника и просил
извинения, и обычно его прощали. Сердце у него было прекрасное, всегда
готовое к благородным порывам. В то же время он отличался ветреностью,
даже легкомыслием и был кутилой безудержного размаха. Стрелял он, ездил
верхом и фехтовал мастерски, учился же посредственно, несмотря на большие
способности, потому что был изрядным лентяем. Любили мы друг друга, как
братья, ссорились, столь же часто мирились, и дружба наша оставалась
нерушимой. На каникулах, как и на праздниках, половину времени либо я
проводил в Хожелях, либо он у нас. Так и теперь, приехав с похорон
Миколая, он должен был остаться у нас уже до конца праздников.
зимний день клонился к концу, в окно заглядывала широкая полоса вечерней
зари, на стоявших за окном деревьях, покрытых снегом и залитых багровым
светом, закаркали, хлопая крыльями, вороны. Из окна было видно, как они
стаями тянутся из лесу и кружатся над прудом, паря в сиянии заката. В
гостиной, куда мы перешли после обеда, царило безмолвие. Мадам д'Ив ушла к
себе в комнату, как всегда, раскладывать пасьянс; ксендз Людвик, понюхивая
табак, расхаживал мерными шагами из угла в угол; обе мои маленькие
сестрички кувыркались под столом на ковре и бодались головками, трепля
друг дружке золотые локоны, а Ганя, я и Селим уселись у окна на диван и
смотрели на пруд, примыкающий к саду, на лес за прудом и на меркнущий
дневной свет.




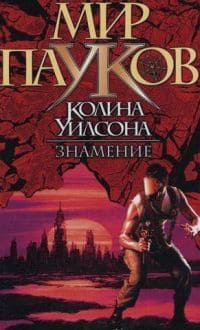

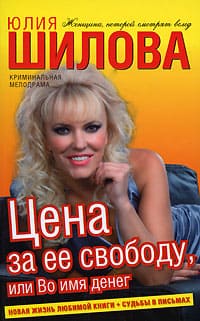 Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Андреев Николай
Андреев Николай Доценко Виктор
Доценко Виктор Пехов Алексей
Пехов Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия