мне ее отдадут. Ты что, не понимаешь, что такое студент?
женишься на ней.
студентам можно. Студенту можно иметь не только жену, но и детей.
Ха-ха-ха!
студентов меня нисколько не интересовали. Вопрос Мирзы озарил, точно
молнией, те стороны моего сердца, которые для меня самого были еще темны.
Тысяча мыслей, словно тысячи птиц, мгновенно пронеслась у меня в голове.
Жениться на моей дорогой, любимой сиротке - да, это было как молния,
по-новому озарившая мои мысли и чувства. Мне казалось, что в темноту моего
сердца кто-то внезапно внес свет. Любовь, хотя и глубокая, но до этой
минуты братская, сразу порозовела от этого света и согрелась неведомым
теплом. Жениться на ней, на Гане, этом светловолосом ангелочке, на моей
обожаемой, беспредельно любимой Гане... Уже тише, вдруг ослабевшим голосом
я повторил, как эхо, прежний вопрос:
осыпать его поцелуями.
отец. Я трепетал при мысли, что он отменит мои распоряжения относительно
Гани, и до известной степени мои предчувствия сбылись. Отец похвалил и
обнял меня за рвение и добросовестность в исполнении возложенных на меня
обязанностей; это, видимо, его порадовало. Он даже несколько раз повторил:
<Наша кровь!> - что говорил лишь тогда, когда бывал очень мною доволен;
ему и в голову не приходило, насколько это рвение было корыстным, но
распоряжения мои ему не слишком понравились. Возможно, что отчасти
причиной тому были преувеличенные рассказы мадам д'Ив, хотя действительно
в последние дни после той ночи, когда чувства мои наконец дошли до
сознания, я сделал Ганю первым лицом в доме. Не понравился ему также
проект дать ей такое же образование, какое должны были получить мои
сестры.
он мне. - Она решит, как захочет. Это по ее части. Но следовало бы
подумать, как будет лучше для самой девушки.
слышал это из твоих уст.
но другое дело женщины. Образование женщины должно соответствовать тому
положению, какое ей предстоит занять в будущем. Такой девушке достаточно
среднего образования; ей не нужны французский язык, музыка и тому
подобное. Имея среднее образование, Ганя скорей найдет себе мужа,
какого-нибудь честного чиновника...
потемнело. Сопоставление Гани с каким-то чиновником показалось мне таким
кощунством по сравнению с миром моих грез и надежд, что я не мог удержать
возглас возмущения. И кощунство это поразило меня тем больней, что оно
исходило из уст моего отца. Это было первое столкновение с
действительностью, окатившей словно холодной водой горячую юношескую веру;
первый снаряд, брошенный жизнью в волшебный замок иллюзий; то первое
разочарование, от горечи которого мы защищаемся пессимизмом и неверием.
Но, как раскаленное железо, когда упадет на него капля холодной воды,
только зашипит и вмиг обратит ее в пар, так и горячая душа человеческая;
при первом прикосновении холодной руки действительности она, правда,
вскрикнет от боли, но через миг согреет собственным жаром и самое
действительность.
подействовали: я испытывал чувство обиды не против отца, а как будто
против Гани; вскоре, однако, силой того внутреннего сопротивления, которое
присуще только юности, я выбросил их вон из своего сердца, и выбросил
навсегда. Отец не понял моей вспышки и приписал ее чрезмерному увлечению
принятыми на себя обязанностями, что, впрочем, было естественно в моем
возрасте, и это не только не вызвало в нем гнева, а скорее польстило ему и
даже ослабило его предубеждение против высшего образования Гани. Я
условился с отцом, что напишу матери, которая собиралась еще долго пробыть
за границей, и попрошу ее окончательно решить этот вопрос. Не помню,
написал ли я еще когда-нибудь столь же горячее письмо. В нем я описал
смерть старика Миколая и его последнее слово, мои желания, опасения и
надежды; затронул струнку жалости, которая всегда так живо трепетала в
сердце моей матери; изобразил угрызения совести, неизбежно ожидавшие меня,
если бы мы не сделали всего, что было в наших силах, - словом, по моему
тогдашнему разумению, письмо это было подлинным шедевром в своем роде и не
могло не произвести должного действия. Несколько успокоившись, я стал
терпеливо дожидаться ответа, который пришел сразу в двух письмах: ко мне и
к мадам д'Ив. Я выиграл бой по всем линиям. Мать моя не только давала
согласие на высшее образование Гани, но даже настоятельно его
рекомендовала. <Я бы очень желала, - писала моя добрая матушка, - если это
не противоречит воле отца, чтобы Ганю во всех отношениях почитали членом
нашей семьи. Мы должны это сделать в память Миколая, в память его любви к
нам и самоотверженной преданности>. Итак, победа была огромная и полная, и
триумф мой всем сердцем разделял Селим, которого все, что касалось Гани,
интересовало так, словно он сам был ее опекуном.
проявлял, даже начинали меня немножко сердить, тем более что с той
памятной ночи, когда я наконец осознал свои чувства, отношения мои с Ганей
сильно изменились. В ее присутствии я чувствовал себя так, словно меня на
чем-то поймали. Прежняя сердечность и детская непринужденность в обращении
с моей стороны совершенно исчезли. Всего лишь несколько дней назад девочка
спокойно уснула на моей груди, - теперь при мысли об этом у меня волосы
становились дыбом. Не прошло и нескольких дней с тех пор, как, здороваясь
и прощаясь, я целовал, как брат, ее бледные губы; теперь прикосновение ее
рук обжигало меня и в то же время пронизывало дрожью наслаждения. Я стал
боготворить ее так, как обычно боготворят предмет первой любви; но когда
девочка, по своей невинности ни о чем не догадываясь и ничего не
подозревая, льнула ко мне по-прежнему, я в душе сердился на нее, а себя
считал святотатцем.
бы я мог с кем-нибудь поделиться своими горестями и хоть изредка поплакать
на чьей-нибудь груди, - чего, кстати сказать, мне не раз очень хотелось, -
несомненно, с души моей свалилась бы половина тяжести. Правда, я мог во
всем признаться Селиму, но опасался изменчивости его настроений. Я знал,
что в первую минуту он отзовется всем сердцем на мои признания, но кто мог
бы поручиться, что на другой же день он не высмеет меня со свойственным
ему цинизмом и не осквернит легкомысленными словами мой идеал, которого
сам я не смел коснуться ни одной нечистой мыслью. Характер у меня всегда
был довольно замкнутый, к тому же у нас с Селимом было одно существенное
различие. А именно: я всегда был несколько сентиментален, между тем как в
Селиме сентиментальности не было ни на грош. В моей любви преобладала
грусть, в любви Селима - веселье. Поэтому я скрывал свое чувство от всех,
чуть ли не от самого себя, и действительно, никто не замечал моего
состояния. За несколько дней, никогда до этого не видя ничего подобного, я
инстинктивно научился маскировать все признаки влюбленности: частое
смущение, румянец, вспыхивавший на моем лице, когда при мне упоминали о
Гане, - словом, я стал проявлять невероятную хитрость, ту хитрость,
благодаря которой шестнадцатилетнему юнцу нередко удается обмануть самое
бдительное око, наблюдающее за ним. Признаться в своих чувствах Гане у
меня не было ни малейшего намерения. Я любил ее, и этого мне было
достаточно. Лишь изредка, когда мы оставались наедине, что-то словно
толкало меня броситься перед ней на колени или поцеловать краешек ее
платья.
обоих. Он первый заставил Ганю улыбнуться, обратившись как-то за завтраком
к ксендзу Людвику с предложением перейти в магометанство и жениться на
мадам д'Ив. Как ни обидчива была француженка, ни она, ни ксендз не могли
на него рассердиться: Селим так заискивал перед мадам, так умильно
улыбался, уставив на нее свои глазищи, что его только слегка пожурили, и
все кончилось всеобщим смехом. В его обращении с Ганей чувствовались
несомненная нежность и забота, но и тут брало верх прирожденное веселье.
Он держался с ней гораздо свободнее, чем я. Видно было, что и Ганя его
очень любит, и всякий раз, когда он входил в комнату, она становилась
веселее. Надо мной или, вернее, над моей грустью он непрестанно
подшучивал, полагая, что я прикидываюсь серьезным, желая во что бы то ни
стало казаться взрослым.
хватал что попало и швырял в него, а ксендз Людвик, нюхая табак, отвечал:



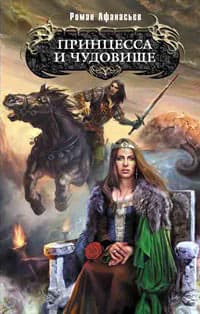


 Махров Алексей
Махров Алексей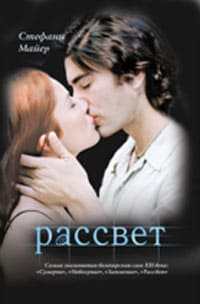 Майер Стефани
Майер Стефани Никитин Юрий
Никитин Юрий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Ильин Андрей
Ильин Андрей Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур