— Но это был не чужой, это был мой сын. И с его смертью я мириться не хочу… — Князь Сакульский поднялся в седло и пустил скакуна в рысь. — Я за город! Скоро вернусь.
Иван Кошкин Андрея дождался, забрал поясок и тут же умчался во дворец. Зверев же, разминая ноги, поднялся в светелку и завалился на мягкую перину, попытался заснуть. Через час отлеживать бока надоело, и он, опоясавшись саблей, спустился во двор, начал отрабатывать выпады, парирование ударов, заставил трех холопов с оглоблями нападать с разных сторон. К сумеркам все запыхались — князь ополоснулся в бане, пошел в трапезную. Ужинать пришлось одному: хозяин не вернулся до позднего вечера, и ждать его дольше не имело смысла. Тем более что вставать Зверев собирался засветло.
Видимо, государь в хлопотах про дерзкого советчика забыл — никто Зверева во дворец больше не звал, и на рассвете Андрей опять помчался к Успенскому собору. Людмила Шаховская за Божьим словом опять не пришла, знакомую же нищенку Зверев возле ступеней увидел сразу. Она тоже заметила князя, закрутилась на месте и, часто оглядываясь, засеменила вдоль церкви. Зверев двинулся следом, нагнал возле дальнего угла.
Старушенция остановилась, втянула голову в плечи:
— Будет тебе, чего желаешь, касатик, будет. Ох, какой грех на душу беру, ох, как рискую я… — Она часто закрестилась и закончила вполне логичным: — Может, накинешь сверху за старания?
— Накину, если все гладко пройдет. Если хоть словом удастся перемолвиться. Сделаешь?
— Удастся, касатик. И перемолвишься, и увидишься. Токмо подготовиться маненько надобно. В расходы войти. А у меня на крошку хлебную не хватает… Ты мне хоть пол-алтына дай, да сам до вечерни сюда подходи. Токмо пеший, и без нарядов знатных. Ну рубаху, штаны надень, а боле ничего не надобно. Бо подозрение вызвать можешь.
— Ладно, красавица, вот тебе серебро, — полез в карман Андрей. — Но смотри, коли обманешь…
— Не боись, касатик. Все будет, как тебе хочется… Коли сам не растеряешься, конечно.
К последним ее словам Зверев не прислушался — хотя следовало. Отпустив попрошайку, он немного побродил вокруг собора и свернул к торговым улицам, что начинались неподалеку, за дворцом князя Воротынского. Спохватился, вернулся за конем — поднялся в седло и поскакал сперва в приют братьев по пиву. С этими кремлевскими правилами скоро и вовсе забудешь, каково верхом ездить! Все пешком да пешком. Туда на лошади нельзя, сюда нельзя, здесь неприлично, тут царю оскорбление.
Коли ходить на своих двоих, то Москва — город просто бескрайний. До ужина Андрей только-только успел дойти до торга, после долгих сомнений выбрал в подарок княгине Шаховской пару сережек: изумрудных, с рубиновыми подвесками, похожими на капельки крови. Не с пустыми же руками с красивой девушкой встречаться, коли старая попрошайка не обманывает и ему с Людмилой случится хоть несколькими словами перемолвиться? Вернувшись домой, Зверев, как и требовала старуха, скинул ферязь, оставил на стене оружие — кроме кистеня в рукаве, естественно. Натянул тонкие сафьяновые сапоги бирюзового цвета, заправил в них такого же оттенка шаровары из тонкой козьей шерсти, опоясался шелковым шнурком, при нужде способном заменить прочную удавку. В голенище сунул несколько монет, завернутый в тряпицу подарок.
— Вот и все… — Он перекрестился на светлый образ Богородицы в углу светелки и решительно вышел.
Попрошайка не обманула. Ждала, суетливо пристукивая посохом, за собором. На том самом месте, где они расстались. Увидев князя, застучала клюкой еще чаще, оглянулась, поманила пальцем, засеменила в заросший бузиной проулок. Там, среди маленьких лачуг, похожих на тесные клети внутри крепостных стен, нырнула в еще более узкий лаз, толкнула дверь в низкую грязную хижину, войти в которую побрезговала бы даже курица.
— Ты это, боярин, — прокашлялась она, — ты сапоги-то сыми. Заметны они больно. На плечи вон ту мешковину кинь. Она протертая да чистая, а поверх — рубище натяни. Жалостливое оно, все в дырках гнилых.
— Ты чего это задумала, старая? — развернул плечи Зверев и тут же стукнулся головой о низкий потолок.
— Как чего, касатик? Калику из тебя убогого делаю, юродивого. Ты это, немым прикидывайся. Чего спросят — гукай токмо. А сказывать я стану. Вот этот мешок на правое плечо пристегни, дабы горб на лопатке получился и спину кривил. На ноги эти вот шаровары с буграми надень. Они стеганые, теплые, не продуваются. Лицо-то у тебя белое, глаза, ровно сокольи… Ты голову пригни, ниже пригни, дабы не глянуть на щеки румяные было. А сверху я платок пуховый кину. Он старый, молью поеден. Вроде и просвечивает, а ничего насквозь не разглядеть. Вот… Вот… Вроде как ладно получилось. А ноги, пока до подворья Шаховских дойдем, сами запылятся.
Андрей, низко пригибаясь, гукая и приволакивая правую ногу, похромал по переулку вслед за попрошайкой. Она немного поправила ему горб, рубище на плечах, но в целом осталась довольна и вывела «в люди» — на площадь возле собора. Прихожане, что начали подтягиваться к вечерне, на двух несчастных внимания никакого не обратили — значит, ничего странного не заметили. Большего от маскарада и не требовалось.
Полчаса спустя попрошайка постучала своей клюкой в калитку княжеского двора.
— Мы Божий странницы, милостью Господней питаемся, за добрых людей молимся, милосердием сердешным пробавляемся, за радетелей дома сего поклоны кладем, иконы целуем, слово доброе разносим, — сплошным речитативом на долгом выдохе выплеснула плаксивым голосом попрошайка, сделала короткий вдох и продолжила: — Хозяюшка Людмила в доме сем особо милостива, перед ночью темной объедки холопьи для нас отложить обещалась…
Засов грохотнул, отворилась калитка:
— Вон там, за амбаром дверь на кухню будет. Туда ступайте. Может, и хозяйка выйдет, коли еще не по-трапезничала. Она ваше племя зело чтит.
— Благослови тебя Господь, добрый человек, — перекрестила его нищенка, после чего, прихрамывая и пригибаясь, что-то бормоча под нос, повернула в указанном направлении.
На кухне было жарко, но не душно. Видать, готовили уже давно, и уходящий в трубу печной жар успел высосать с собой пар и вкусные запахи, оставив только сухое тепло. Две раскрасневшиеся тетки в мокрых, почему-то исподних, полотняных рубахах и черных юбках развешивали на гвозди черпаки и сковородки, гремели оловянными кастрюлями и медными котлами. Попрошайка бочком, бочком пристроилась за вытертый, почти отполированный за годы службы дощатый стол, села за него, принялась креститься.
— Это снова ты, Ксеня? — Одна из теток тщательно вытерла о юбку руки, перекрестилась, после чего все тем же подолом протерла стол. — Сказывала, суженого мне вымолишь, а у меня и Макарий, который холоп, за князем на службу уехал. Больше никто и не смотрит совсем.
— Дык, я молю, молю, Дусенька, — кивнула попрошайка. — Да ведь скоро слово сказывается, да не скоро дело делается. И за тебя молюсь, и за хозяюшку вашу…
— В углу бак, — перебила ее другая кухарка. — Там хлеб остался с мясным соусом, и еще куски от убоины какие-то мелкие. Хватайте, пока Хрюнделю не вывалили.
— Княгиня за обедом белорыбицы половину куска велела для просящих Христа ради оставить, — напомнила Дуся. — И Ксению особо помянула.
— Да-да, — обрадовалась нищенка. — За нее особо молю, уж она со мною вместе у распятия намедни стояла, и слово велела для нее запомнить, и о благовесте поведать. К нашему собору странник пришел из Михайлово-Архангела[20 - Михайлове-Архангельский монастырь. Известен с XII века. В дальнейшем оброс городом — Архангельском.], про благовест тамошний сказывал. Что за чудесный благовест!
— Схожу, хозяйке про вас обмолвлюсь, — решила вторая кухарка. — Как бы не осерчала, что без нее вас спровадили.
— Ты кушай, Ксеня, не беспокойся, — выставила на стол деревянный лоток Дуся. — Хозяйка милостива, еще и одарит чем за молитвы усердные. Ты мужа, мужа ее лишним добрым словом помяни. В походе он дальнем, на службе государевой. Ради нас и благополучия княгини старается.
— Молюсь, усердно молюсь, — придвинула к себе лоток попрошайка и запустила в него обе руки. — Петру и Павлу, апостолам, молюсь, небесным его покровителям. Ох, как мучались они, бедные, в руках римлян, язычников древних, как страдали! Но вознеслись и, милостию Божией, теперь одесную от него на небе сидят…
Обе женщины истово перекрестились, а Зверев — забыл. И тут же привлек внимание:
— А это с тобой кто? — потянула к платку руку кухарка.
— То Октария! — испуганно рявкнула попрошайка, и Дуся руку на всякий случай отдернула. — Убогая она. Немая, умишком не выросла. Присматривать я за ней взялась, бо пропадет ведь, юродивая. Вот, Октенька, откушай рыбки.
Андрей гукнул, пригнул голову еще ниже, под стол. Вот только ему не хватало есть из лотка, в котором нищенка грязные пальцы прополоскала!
К счастью, тут на кухню спустилась Людмила: в скромном сатиновом платке, в уже знакомом князю зеленом платье с бархатными плечами. Она присела напротив попрошайки, перекрестилась, положила подбородок на руки:
— Оголодала, милая? Ты кушай, кушай. Опосля о просьбе моей поговорим. Исповедаться хочу, но душа к отцу Ануфрию не лежит. Тороплив он больно, не вникает. Нечто пастыря ныне усердного нет? Я бы ради такого и за город поехала… Ну чего вы в рот человеку заглядываете?! — неожиданно цыкнула она на стряпух. — Идите, не стойте у нее над душой. Как к себе ее для молитвы в церкви домовой призову, так и доделаете, чего вам осталось.
Кухарки ушли, Андрей тоже выбрался из-за стола, встал позади княгини. От скрюченного состояния ныла спина, и он с наслаждением распрямился, пока никто не видит. Женщина скользнула по спутнице попрошайки лишь рассеянным взглядом, наклонилась вперед:
— Сказываешь, опять появился, неприкаянный?
— Появился, милая, появился, — неторопливо обсасывая белые тонкие ребрышки, поведала старая нищенка. — Ох, гори-ит… Душу, видать, ты ему вынула. Всю, до донышка. Как же удалось-то тебе? Он и в собор Успенский зачастил, и округ крутится, ан тебя-то и нет, не ездишь!
— Может, появиться? Исповедаюсь у Ануфрия, ну его. Но к молодцу, конечно, и голову не поверну! Я ведь его тоже видела, Ксеня, представляешь?! У друга отцовского в доме недавно была, с дочерьми его на качелях катались. Я к Михайло Иванычу заглянула — а он там сидит, представляешь?! Князь он, оказывается. Андрей Сакульский именем. Ой, я так испугалась! — вскинула она ладони к лицу. — Сон ведь у меня был вещий. А тут вдруг — он!
Зверев тем временем скинул с себя все рубища, одернул рубаху, пригладил волосы. Княгиня Шаховская, заметив, как пристально смотрит гостья ей через плечо, обернулась, громко охнула, вскочила, прижавшись спиной к столу, упершись в него руками:
— Я заснула, да? Ксеня, я сплю? Странно, не помню, как ложилась. Ты ведь мне снова снишься, правда?
— Это нетрудно проверить, чудесная моя, — тихо ответил Андрей, обнял ее и крепко прильнул к губам. Они были сладкими, мягкими, горячими и отзывчивыми.
Зверев начал целовать ее подбородок, шею, закрытые глаза, брови. Руки на спине ощущали крючки, пальцы осторожно расстегнули один, другой, третий. Губы коснулись полуобнаженных плеч, ямочки между ключицами.
— Нет… Нет… Как же… Грешно… — тихо шептала она, но дышала часто, взахлеб, словно ей не хватало воздуха. — Что ты делаешь?.. Князь… Мой князь…
Через ее плечо Андрей сделал нищенке страшные глаза. Старая сводня понимающе закивала и вместе с лотком бесшумно сгинула за входной дверью. Бархат уже открыл небольшие груди с остро стоящими розовыми сосками — князь Сакульский согрел их дыханием, легко коснулся кончиком языка, потом поцеловал. В нем нарастало напряжение, готовое в клочья разорвать одежду, а Людмила твердила все тоже:
— Нет, не нужно… Нет… — Она попыталась развести руки, остановить скользящую к полу ткань. — Перестань немедленно! Не снимай платья! Оно испачкается и помнется. Тетки заподозрят неладное.
— Да…
Андрей повиновался: отодвинул лавку, подсадил Людмилу на край стола и, оставив наконец-то в покое крючки, приподнял край юбки, медленно повел ладонями вверх по ногам. Благословен мир, в котором еще не изобрели нижнего белья! Он дернул завязку шаровар — а княгиня откинулась на спину, на словно специально вымытый стол, вцепилась ладонями в его край. Их тела наконец-то слились в единое целое, заставив вскрикнуть и Людмилу, и Андрея, рванулись навстречу друг другу, смывая потоком страсти остатки разума, осторожности, приличий и морали. Горячий смерч поглотил все, что было мужчиной и женщиной, смешал все это вместе, а потом взорвал единым пламенем, спалившим все силы, что оставались в людях за скоротечный, но столь сладкий миг.
Немного придя в себя, Зверев наклонился, завел ладони ей под лопатки, поднял обмякшее тело, поцеловал одну грудь, другую, тихо спросил:
— Так это похоже на сон?
— Еще как… — ответила юная женщина. — Ой, я не смогу сегодня молиться… в домовой церкви… Нет, не смогу. И смотреть на тебя спокойно не смогу…
Она вдруг прижалась к нему, сильно обняла, несколько раз поцеловала, попадая куда придется, осторожно оттолкнула:
— Помоги… Ты ничего не порвал? Если муж хоть что-то заподозрит, он меня убьет. Совсем убьет, он от ревности звереет. Сам повод выдумывает, а потом за косарь хватается. Крючки, крючки на месте? Их не я, их девка вечером расстегивает, она заметить странное может. Застегни… Скажи лучше, если что не так. Я придумаю… Скажу, зацепилась, порвала. Могла поскользнуться на лестнице.
— Не нужно, — так же осторожно, как расстегивал, вернул крючки в прежнее положение Андрей. — Все целое. Будто и не трогали.
— Это хорошо. — Она развернулась, положила ему ладони на плечи, приподнялась на цыпочки и поцеловала. В губы. — Какой чудесный сон. Он тоже вещий?
— Да. Даже не сомневайся.
— А где Ксеня? Спряталась?
— За дверь во двор вышла.
— Бедная, там же темно. Одевайся, я ее позову.
Спустя десять минут попрошайка и Андрей ковыляли через двор к воротам. Княгиня постояла в дверях кухни, потом вдруг перекрестилась, громко попрощалась:
— Благослови вас Господь, Божьи странницы! Грызло, Федот, как снова Ксеня с юродивой появятся, сразу в светелку ко мне посылай. Акафист Покровный выучить с блаженной хочу, и молитву сохранную апостолам Петру и Павлу. А не будет меня — велите кормить да за мной сразу посылайте.
— И чем ты только хозяйку так пронимаешь, Ксенька? — удивился привратник и закрыл за попрошайками калитку.
По темным улицам — сторонясь караулов — они пошли довольно быстрым шагом. Старая сводня тоже обрела изрядную прыть, а клюку просто сунула под мышку. Уже минут через десять они оказались в ее укрытии. Андрей переоделся, попрошайка же запалила фитиль масляной лампы, поставила на полочку перед суровым образом пророка Даниила:
— Ну как? Удалось мне угодить тебе, княже?
Зверев выгреб все золото, что брал с собой, и молча вложил ей в руку. Нищенка издала возглас, похожий на довольное кошачье «Мяу!» и предупредила:
— Я завсегда здесь, у ступеней храма Успения. За страждущих молюсь.
Путь до двора Ивана Кошкина занял еще полчаса. Ворота Андрей отворил с помощью заклятия на запоры, тихонько запер сам — кажется, никто ничего не заметил. Сотворив наговор на кошачий глаз, он сам, без света, добрался до светелки, быстро разделся, упал в перину и, наконец перестав таиться, громко захохотал. Ну надо же! А он целый день ломал голову над тем, о чем будет вечером говорить с незнакомой девушкой!
Не любовь — настоящая безумная страсть захватила молодых людей в свои булатные оковы. Андрей жил от свидания до свидания, он забыл свои планы, забыл службу и государя, забыл про Казань и пророчества старого Лютобора. Он не заметил, когда на Русь пришла зима и крыши укрыло ровное полотно пока еще белого снега, он не помнил, когда и что ел, о чем разговаривал. Не замечая времени, не замечая дней и недель, он дышал, жил только тем сладостным мигом, когда за резной стрельчатой дверью откроется просторная светелка — и он сможет распрямиться, сбрасывая горб и лохмотья, становясь самим собой и пожирая жадными глазами прекраснейшую из всех женщин Вселенной.
— Какой ты ненасытный, — прижавшись щекой к его плечу, удивлялась Людмила. — Какой ты страстный. А князь Петр, как приезжает — с друзьями пива напьется, потом в постели носом мне в подмышку тыкнется и спит. Иногда, бывает, вспомнит, навалится, подергается, как припадочный. Я и понять ничего не успею — а он уже спит, весь потный. Лапу токмо сверху кладет, как хозяин на сукно. Ну почему я не твоя жена, Андрюша? Ну почему я не твоя, а его!!!
— Ты моя. Ты только моя. Ты моя любимая, ты моя самая прекрасная и желанная. Твой голос ласкает сердце, как теплый летний ветерок, твои глаза завораживают, как магия полнолуния, твои губы порождают желания, от которых закипает кровь, улыбка чарует, словно рассвет над горным озером, волосы волнуют, точно видения темной ночи, дыхание душисто, будто цветение персикового сада. Жесты твои легки и грациозны, руки тонки и изящны, а пальцы точены, словно изваяны резцом мастера из слоновой кости. Неповторимы линии твоих плеч, безумно соблазнительна грудь, изящна талия. Ноги твои стройны и свежи, как первые лучи солнца, а каждый шаг разит, словно лезвие меча, оставляя вечный след в душе любого мужчины. Восхитителен румянец на прохладных бархатных щеках, загадочен взмах ресниц, в тебе привлекает и поворот головы, и гордая грация во вскинутом подбородке. Ты воплощаешь все радости мира, смысл жизни, цель существования, ты создана на счастье и на гибель, ибо даже смерть не страшна, если служит платой за твои объятия. Каждый миг без тебя растягивается в вечность, пища не имеет вкуса, вода не утоляет жажды, воздух давит грудь, сон не приносит отдыха, а солнце — тепла. Без тебя мир сер и скучен, и я бросился бы в пропасть, если б не знал, что увижу тебя снова, моя единственная, мое сердце, моя жизнь! Моя Людмила, Люда, Люся…
— Но это сейчас! А вернется из Путивля Петр — что тогда? Я опять окажусь при нем! На одной перине с этим вонючим боровом! Он станет тыкаться в меня, вонять кислым пивом и лапать, лапать. Разве тебе все равно? Тебя тогда уже никто сюда не пустит. Никогда! Пока он не уедет. А если останется? Если его с воеводства снимут?
Андрей только крякнул: он в самом деле не представлял, как сможет перенести подобную муку. Знать, что твоя любимая в руках другого — и оставаться бессильным это изменить.
— Я хочу быть твоей женой, князь Андрей. Твоей, понимаешь? Твоей, твоей, твоей! Не воровать эти встречи, не бояться каждого стука. Быть твоей! Иметь право лежать в твоей постели, любить тебя, отдаваться тебе, рожать тебе детей. А если меня муж заподозрит в измене? Он же зарежет меня! Зарежет из ревности да схоронит по дороге в этот далекий Путивль и скажет, что сама умерла. И никто не узнает! Или просто заберет. И все! Тебя больше рядом не будет. Ты останешься, а меня увезут! Увезут от тебя! Навсегда, ты понимаешь?! Возьми меня в жены, Андрюша, возьми, возьми…
— Как я возьму? К митрополиту за разводом кланяться? Так ведь не даст. Раз жена не бесплодная — не даст. Даже с бесплодной может не дать. Бог ведь разводов не признает. Ради царя еще могут исключение сделать, и то с большими муками. А просто князю — ни за что не даст.
— Какой развод, глупенький ты мой? — как-то по-детски удивилась Людмила, заползла к нему на грудь, прижавшись коралловыми сосками, глянула сверху в глаза. — Ты ее бей, наказывай. Унижай всячески, гоняй. Пусть невыносимо ей жить с тобой станет. Она в монастырь и уйдет. А ты на мне женишься. Это же можно, многие так делают. Иные просто отсылают в обитель, но без желания этого по уставу церковному нельзя. Лучше, чтобы сама захотела, сама ушла. А потом я стану твоей женой.
— Ты замужем, Людмила, — напомнил Зверев. — Князь Шаховской, может, и не молод, но еще крепок умом и телом, коли уж службу царскую нести продолжает, в сечах режется и указы воеводские издает.
— А мы его изведем. Ты же можешь, Андрей. Ты умеешь. Ты колдун, об том вся Москва говорит. И Ксеня упреждала, а уж я сама лучше всех знаю. Свари зелье на извод, а я в питье подолью. А, любый мой? Свари… Свари — и мы поженимся.
— Грех это, счастье мое, человека изводить…
— А во блуде жить не грешно? Блуд, обман, осквернение ложа. То грех еще страшнее, чем душегубство простое. Нам жениться надобно.
— Я женат.
— Но ты ее в монастырь прогнать можешь! — Людмила возмущенно шлепнула ладонями по его ключицам.
— Чтобы бить ее, наказывать и изводить, я должен уехать от тебя и осесть в княжестве.
— У-у-у… — застонала княгиня и скатилась с него на перину. — Не уезжай. Пусть пока так… Потом сживешь, когда нужда домой погонит. Оставайся. Будь здесь, любый мой. И люби меня, люби…
Первую брешь в круговерти этих встреч пробил боярин Иван Юрьевич. Однажды, перехватив подзадержавшегося гостя на крыльце, он вдруг весело захлопал его по плечам:
— Везуч ты, Андрей Васильевич, ох, везуч! Все по твоему слову вышло. Ныне тебе и Макарий, и дьяк любой не указ, хоть ты колдуй, хоть не колдуй. Государь на пир тебя зовет. Послезавтра среда, день постный. Вот тогда и зовет.
— Пир в пост? Странное время…
Но от царского приглашения не отказываются, и на третий день после полудня Зверев вместе с боярином Кошкиным отправились во дворец. Лошадей отдали холопам — даже дьяку не дозволяется ездить в Кремле верхом, — дошли до Грановитой палаты. У скромных уличных дверей их встретили служилые московские бояре и, сверившись с местническими грамотами, провели на второй этаж, под золотые своды парадного зала, усадили рядышком в самом начале третьего от царского стола. Гости уже собирались.
У второго стола затеяли спор из-за мест, за спиной незнакомые бояре удивлялись неурочному празднику. Вроде и дат памятных нет, чтобы отметить, и побед громких войска русские нигде не одержали, и иных событий не случалось. Ради постного дня ни скоморохов, ни медведей никто на пир не привез, лишнего шума не возникало и слышно все было отлично.
Наконец споры из-за мест были улажены — где полюбовно, а где и выдворением спорщиков на заснеженную улицу, — гости расселись. В наступившей тишине холопы в расшитых рубахах внесли на длинных подносах целиком запеченных десятипудовых белорыбиц, поставив по одному блюду на стол, следом доставили кубки, кувшины с квасом, сбитнем и сытом. И лишь после этого в палату вошли парадно одетые — в тяжелые от золота и самоцветов собольи шубы — государь с царицей, чинно, бок о бок уселись за свой отдельный стол. Гости начали было подниматься, попытались приветствовать правителя всея Руси, но шум быстро стих: нехорошо как-то в пост шуметь и веселиться. А Иоанн Васильевич, известное дело, набожен, пожалуй даже — весьма набожен. Вот и длился пир в подозрительной тишине, при старательном чавканье и еле слышных перешептываниях.
К Андрею подскочил холоп, поставил серебряное блюдце с покрытым румяной корочкой куском, поклонился:
— Государь тебе, княже, опричный кусок со своего стола шлет с уважением. Сказывает, завтра видеть в покоях желает.
Опричный кусок — это награда, что-то вроде Знака Почета в двадцатом веке. Поэтому князь Сакульский поднялся во весь рост, пристально глянул на Иоанна, почтительно поклонился, снова распрямился, глядя на белое блюдо перед царем и коричневое перед царицей. Сел, толкнул боярина Кошкина в бок:
— Ты знал, да? Знал?
— Знал, вестимо. А ты рази не догадался?
Андрей закрутился, не зная, с кем поделиться открытием, повернулся назад и шепнул в ухо одному из бояр:
— Анастасия убоину ест. Мясо.
— Царица мясо ест! — тут же выплеснул тот полученное известие соседям. — Пост, а она — мясо!
И молва понеслась дальше и дальше, предупреждая всех, что в русском царстве грядут долгожданные перемены.
«Ястреб»
Челобитных в покоях государя стало совсем немного — они лежали между сундуками уже не по пояс, а ниже колена. Видать, новые сюда носить перестали, а со старыми прилежные работники потихоньку разбирались. Год-другой — и вовсе не останется. Андрей кивнул священнику и боярину Адашеву, после чего вошел в светелку с изразцовой печью. Иоанн остановился в дверях, указал на пюпитр:
— Читай. — На деревянной подставке лежала стопка заполненных убористым почерком листов выбеленной бумаги. Страниц пятьдесят. — Коли мысли возникнут — в свитке, что на окне, помечай. Моих отметок там уже изрядно, ты ниже пиши.
И юный царь ушел, оставив его наедине с порученной работой. Зверев вздохнул, потянул к себе верхний лист:
«Лета 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси сесь Судебник уложил:
Суд царя и великого князя судить боярам, и окольничим, и дворецким, и казначеям, и дьякам. В суде не дружити и не мстити никому, и посулу в суде не имати; тако ж и всякому судье посулов в суде не имати…»
Текст, как было здесь принято, шел сплошняком и не имел разделения не то что на главы, но, кажется, и на предложения. Продраться через него было трудновато, однако с первых строк стало ясно, что первые из предложений Зверева царь процитировал почти дословно: про то, что суд нельзя использовать ни для мести, ни для дружеской услуги, ни для получения взяток. Дальше очень долго расписывалось, кому еще нельзя брать «посулов», ради чего нельзя и что за такое преступление бывает. В общем, радикальное предложение князя Сакульского: «Попался на мзде — сразу на кол перед земской избой», — не прошло. Хотя в общем мысль царя двигалась в правильном направлении.
Часа через два Андрей увяз в разборках, связанных с займами и иностранцами — причем перестал понимать половину слов. Ну что могло означать: «Живота не давати», «христианский отказ» или «игородь чужеземца»? Спрашивать тоже не хотелось, дабы не засветить своей невежественности. Утешало только то, что пойманного на «татьбе» вора ограбленный хозяин мог тут же карать по своему разумению — справедливость и разум восторжествовали над юриспруденцией. К середине царского сочинения выяснилось, что судить воеводам надобно не просто так, а с согласия «выборщиков и целовальников». Сиречь — в суде появлялись первые со времен Ярослава Мудрого присяжные заседатели.
Последнюю страницу Андрей перевернул уже сильно за полдень, взвесил трактат, положил на место и выглянул в горницу, где царь задумчиво читал одну из челобитных.
— А отчего воевод выборными не сделал, государь? Ведь жаловаться на них станут. И на тебя обижаться, что плохого поставил.
— Опасаюсь смуту на Руси сим указом учинить. Не станут знатные бояре худородным подчиняться, коли рода при посылании на кормление не учитывать. Коли же избирать воевод начнут, то тут у худородных изрядно перевеса будет.
— Коли это сознательно, — развел руками Андрей, — то возражать бесполезно. А в остальном, я считаю, судебник правильный. Большую пользу принесет. Он уже действует?
— Нет, княже, торопиться не стану, — покачал головой Иоанн. — Перечитаю еще, подумаю. Иным людям дам почитать, их послушаю. Твои слова приведу, их возражения узнаю. Почто указ таким издавать, чтобы через год менять приходилось? Взвесить все до мелочей надобно, посоветоваться. Подпишу, коли сомнений не станет.
— И это тоже правильно, государь, — склонил голову Андрей. — Дай Бог тебе терпения. А я свою лепту, что мог, уже вложил.
— А правда ли, боярин, — не дал ему дозволения уйти правитель, — что перед визитом ко мне у тебя в светелке икона плакала?
— Больше не плачет, государь.
— Что крест нательный в покоях моих грелся?
— Больше не греется.
— А есть ли крест на тебе, князь Сакульский?
— Не веришь в честность мою, государь? Что же, смотри, царь-батюшка… — Зверев вытянул нательный крестик, поцеловал его, после чего осенил себя знамением, произнося ритуальную формулу: — Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Видишь, Иоанн Васильевич, у меня крест на груди есть. Но есть он и на груди еще тысяч единоверцев моих, что ныне в тяжкой неволе томятся, в рабстве в казанском ханстве издыхают. И никакой надежды на спасение нет у них, ибо ты, государь мой православный, спасать их от тяжкой доли не желаешь. Не обнажаются для их спасения сабли, не поднимаются хоругви, не идут тяжкой поступью русские полки. Потому что ты, государь, не желаешь их спасения! Что тебе один мой крестик? Ты иди о тысячах позаботься!
— Ты обезумел, боярин?! — задохнулся гневом царственный мальчишка. — Ты с кем говоришь, раб? Запамятовал?!
— Раб? Один из тысяч! Отчего ты не спасаешь нас от басурманской неволи, государь? — Первые слова Андрей произнес из обиды, из обиды на то, что спасенный от порчи Иоанн подозревает в нем черного колдуна. А теперь просто не мог остановиться.
— Поумнее тебя бояре над тем размышляют! Посадим своего мурзу в Казани — вернет он русский полон.
— Ложь! Они дадут малую часть, для отвода глаз. А потом еще и новых награбят.
— Я заставлю мурзу остановить набеги!
— Ну и что? Придут османы, посадят своего урода, и начнет он тут же вопить, что русских гнать, убивать и резать надо. Не может быть дружбы наполовину, не может быть покоя на рубежах, где власть, что ни день, меняется. Коли нет дружбы прочной, значит, меч русский ее должен заменить. Сажаешь друга — пусть полки наши примет, пусть татей позволит ловить. А не хочет — значит и не друг вовсе. Так, пиявка, что на русской крови жиреет. Посылай войско на Казань, государь. Посылай, силой дружбу ненадежную укрепляй. Вот тогда ни набегов, ни рабства уже точно не станет.
— Ты обезумел, боярин! Знаешь, сколько крови тогда на земли наши прольется?
— То будет кровь людей ратных. Ныне же токмо невинная кровь проливается. Зачем Казань от гнева русского спасаешь, государь? Отдай ее нам! Лучше раз боль сильную перетерпеть, нежели сто лет мукой вечной страдать. Подними полки на Казань, подними!
— Душа моя страдает за каждую душу православную, — вскинул свой перст юный царь, — за каждого младенца невинного, за боярского сына убиенного. И не позволю я вам, душегубам, пожара порубежного бочками крови русской заливать. А теперь ступай прочь, боярин. Беги, пока воля моя ужо твоей крови не взалкала! Без тебя найду, как с бедой казанской управиться, без тебя! Прочь!!
В этот раз князь Сакульский послушался, быстро спустился вниз, вышел на улицу, зачерпнул пушистого, как пух, снега и приложил к лицу.
Да, в этот раз он палку изрядно перегнул. Юный царь в любви к казням пока замечен не был, но злить его столь рьяно все же не стоило. Зачем дергать тигра за усы?
Андрей отбросил подтаявший снег, зачерпнул еще.
Но почему Иоанн так упрямо не желает войны с Казанью? Ладно бояре — они прибыток с нынешнего положения имеют. Но ведь царь подарков от татар не получает! Куда чаще наоборот — своих ставленников одаривает. Тогда почему столь истово православный государь не желает применить силу для спасения единоверцев? Неужели верит, что закоренелых разбойников можно утихомирить уговорами и подачками? Поддался уговорам Думы, что обещает сделать все мирно и красиво, одной дипломатией? Или интеллигент, выросший на библиотечных философских трактатах и красивых романах, действительно не хочет большой войны? Большой войны и неизбежных многотысячных жертв…
— Скорее все вместе, — решил Андрей и зашагал к Боровицким воротам. — Ладно, нужно Пахома и князя Воротынского порасспросить подробнее да еще раз попытаться Иоанна уговорить. Только теперь вежливо, без криков.
Осуществить свою мысль он попытался ровно через неделю. Про его визиты в личные покои государя знали многие, и уж точно — вся стража. Поэтому дойти до заветной лестницы труда не составило, а там — он попросил рынду доложить государю о своем приходе. Боярин личной царской охраны ушел в покои и уже через минуту вернулся.
— Проходи, князь.
В светелке Зверев, смирив гордыню, опустился на колено:
— Прости меня, государь, за дерзость и грубость мою, за слова непотребные, охульные. Виноват. Не за себя сердце болит, за людей русских.
— С огнем играешь, боярин, с огнем… — поверх пюпитра опустил на вошедшего тяжелый черный взгляд юный царь, и в этот миг в глазах его ощутилась не мальчишеская наивность, а суровость истинного повелителя. — Сам не ведаешь, сколь близок к плахе ты был во время спора нашего. Однако же верность, преданность свою ты мне уж не раз доказал, а верных слуг у меня не так много, чтобы легко ими жертвовать. Опять же, слов охульных супротив меня ты не произносил, все татар казанских проклинал. И не на меня гнев обрушивал — за люд православный заступался. — Юноша вздохнул: — Дерзок ты, князь Сакульский, и труден в разговоре. Но чего еще ждать от боярина, что жизнь в битвах проводит, живота не щадя? Страха имать ты не привык. Посему не держу я на тебя гнева. Дерзость службой искупишь. Ступай.
— Служба моя в защите земли нашей и людей русских, Иоанн Васильевич. Но ведомо мне, что за последний век в Казани пятнадцать ханов сидели, кои сторонниками московскими себя называли. За дружбу свою с Москвы они подарков брали изрядно, ради дружбы страна наша с ними не воевала ни разу. Однако же набеги на порубежье наше при них никогда не прекращались. Что «московский» хан в Казани правил, что «османский» — люди муромские, нижегородские, переяславские разницы не замечали. Десятки, сотни тысяч православных русских душ в неволе сгинуло. За сто лет — считай, миллион, каждый десятый из народа твоего, государь. И никто за них не вступился ни разу. Я вот что тебе скажу, Иоанн Васильевич. Друг — это тот, на кого в трудную минуту положиться можно. Казанские же ханы — не друзья. Это те, что силы московской боятся, а потому кланяются. Но при этом все едино грабить продолжают исподтишка. А коли слабость в России почувствуют — так ведь первыми кинутся рвать нас на части! Хуже нет, чем состояние половинчатое. Вроде как и друг — а пользы никакой. И пакостит — а наказать неудобно. Уж лучше враг явный, с ним хоть знаешь, как поступать. Сейчас в Казани Сафа-Гирей сидит. Он сам себя врагом московским называет и тем кичится. Так воспользуйся такой возможностью, государь. Покончи с бедой нашей извечной раз и навсегда, пошли полки русские на Казань!
— Что же, слушал я тебя внимательно, княже, — кивнул юный царь. — И мысли твои стали мне понятны. А теперь ты меня послушай. Татары — друзья наши древние и верные. Половина родов боярских историю свою от татарских царевичей ведут. Матушка моя, Елена Глинская была дочерью Олексы, сына Мансура, сына Мамая и дочери Бердибека, хана из рода чингисидов. Посему и сам я на четверть чингисид и право династическое полное на ханство Казанское имею. Испокон веков татары, в том числе и казанские, трону московскому служат и храбрость в битвах выказывают отменную[21 - Даже в армии, что под командой Ивана Грозного вела войну с Казанским ханством и штурмовала Казань, на 50 000 русских бойцов насчитывалось 60 000 татарских воинов!]. Немало у нас сторонников среди народа казанского, из пяти четверо завсегда нашу сторону держат, ставленников наших радостью встречают, к нашим словам прислушиваются. Коли войну начать, все они враз из друзей врагами нашими на поколения станут. В битвах крови прольется несчитано, крови русской и друзей недавних наших. Так чего в этом хорошего, князь? Терпение надобно проявить, Андрей Васильевич, терпение. Друзей наших в Казани куда больше, нежели врагов. Их будем взращивать, сторонников на трон сажать, помогать, поддерживать, к службе московской приучать. Не пять лет это займет, и не десять. Может, и не тридцать даже. Но через полвека — может, при внуках моих, — станут наши страны единым целым. Безо всякой крови станут. Вот весы предо мной. На одной чаше — кровь, ненависть, смерти бесчисленные, утрата друзей наших давних. На другой — всего лишь терпение. И что, князь Андрей Васильевич, считаешь, я выбрать должен? Что до набегов — то бандитов безродных не только в Казани, их и в наших землях хватает. Их ловить и истреблять надобно. Для того поместное ополчение службу в порубежье и несет.
— Друзей наших в Казани, может, и больше. Да враги у власти. Мы к себе тянем, османы к себе. Весы качаться могут вечно. Нужно решительно груз изрядный на свою чашу положить. Разрубить разом узел гордиев. Коли встанет в Казани русский гарнизон, вот тогда только дружба наша нерушимой и сделается. Я же не предлагаю татар слугами сделать, рабами нашими, людьми второго сорта. Пусть остаются равными среди равных! Но быть равными — не значит иметь право грабить соседей!
— Видать, не слышал ты всего, что я тебе говорил, боярин, — с досадой покачал головой Иоанн. — Высокая Порта далеко, а мы близко. Что до весов, то лучше золотом меж собой тягаться, нежели жизни человеческие класть. Ступай, Андрей Васильевич, нет у меня времени на пустые разговоры. Коли мысли дельные появятся — вот тогда приходи.
После такого Звереву оставалось только поклониться и выйти за дверь.
— Терпение, терпение, — бурчал он себе под нос, спускаясь по ступеням. — Тридцать лет, пятьдесят… Знал бы ты, что нет у Руси этих самых пятидесяти лет. Ибо враги не любят ждать, когда мы станем сильнее. И нападают всегда раньше. Тридцать лет, всего тридцать лет. Какие внуки? Ты сам увидишь, как рушится наша страна…
Одно было ясно: про отношения с Казанским ханством царь уже успел и подумать, и посоветоваться, и распланировать все на много десятилетий вперед. Его политика была удобна всем: боярам, что осыпались подарками, государю, совесть которого успокаивала перспектива мирной унии с татарами и отсутствие кровопролития, самих татар, что получали золото и из Москвы, и из Стамбула, да еще продолжали спокойно грабить русские земли. Плохо было только жителям порубежья — но смердов, как известно, в правительство никто не приглашал.
— Проклятие! — раздраженно сплюнул князь. И это было все, что он мог сделать. Сторонников войны, «ястребов», в Москве просто не имелось. А в одиночку огромную Россию лицом на восток не повернешь. — Тридцать лет, всего тридцать лет… Когда вы поймете свою ошибку, будет уже поздно. За сегодняшние ковры и туркестанских жеребцов головами отдариваться будете. Но изменить не сможете ни-че-го.
Из Кремля ноги сами понесли его к храму Успения, где дожидалась своего часа довольная жизнью, но по-прежнему грязная и скрюченная нищенка. На те подарки, что успели надавать ей за последнее время и Андрей, и Людмила, она могла бы уже собственный храм построить — но не купила себе даже новых лаптей. Переодевшись, он со сводней отправился на подворье Шаховских — и застал княгиню всю в слезах.
— Господи, милая моя, родная! — торопливо стряхнув рубище, кинулся к ней Андрей, обнял, прижал к себе. — Милая, да что же с тобой? Что случилось, кто тебя обидел, любимая?
— Сим… Сим… Си… Сю…


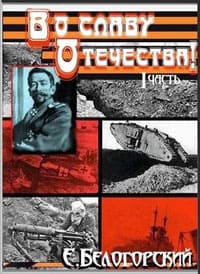



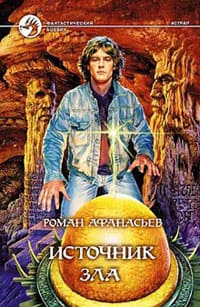 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Флинт Эрик
Флинт Эрик Посняков Андрей
Посняков Андрей Свержин Владимир
Свержин Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия