успел заметить рукоятку пистолета - слева под мышкой.
заразу друг от друга, паршивцы.
усталыми.
Корсо протянул Пинту руку и снова заговорил о Викторе Фаргаше:
кража, не более того.
через окошко с опущенным стеклом. Он вроде даже обиделся:
записки и работал допоздна. Кровать его была завалена бумагами, на подушке
лежали открытые "Девять врат". Он здорово устал и решил, что горячий душ
поможет ему прийти в себя. Но едва он направился в ванную, как зазвонил
телефон. Это был Варо Борха. Его интересовало дело Фаргаша. Корсо в общих
чертах обрисовал ситуацию, упомянул и об отличиях, обнаруженных на пяти
гравюрах из девяти.
друг отказывается.
книготорговец размышлял, но о чем именно - о гравюрах или о несговорчивости
Фаргаша - понять было невозможно. Когда он снова заговорил, тон его был
предельно осторожным.
чем шла речь. - А есть ли способ обойти препятствие?
секундной стрелкой.
разговоре с Пинту, а его собеседник не удосужился полюбопытствовать, каким
именно способом охотник за книгами собирался уладить дело или, как он
выразился, "обойти препятствие". Варо Борха ограничился вопросом: не надо
ли еще денег? Корею отказался и обещал позвонить из Парижа. Потом набрал
номер Ла Понте, но трубку по-прежнему никто не брал. Голубые страницы
рукописи Дюма так и остались лежать в папке. Корсо собрал свои заметки и
вместе с томом в черном кожаном переплете с пентаграммой снова сунул в
холщовую сумку, сумку же спрятал под кровать и привязал за лямку к ножке.
Теперь, как бы крепко он ни спал, никто не сумеет украсть сумку, не
разбудив его. Что-то больно обременительный достался ему багаж, буркнул он
себе под нос, направляясь в ванную. И опасный. Хотя почему именно опасный,
он и сам не сумел бы объяснить.
сквозь облако пара в зеркало и увидал себя - худого и поджарого, похожего
на отощавшего волка. Опять откуда-то издалека, из прошлого, настиг его укол
тоски, потом сознание захлестнула волна боли, той, что, казалось, уже давно
утихла; словно одновременно и в плоти его, и в памяти задрожала какая-то
струна. Никон. Он вспоминал ее всякий раз, когда расстегивал ремень - ведь
раньше она любила делать это сама, был у них такой странный ритуал. Он
закрыл глаза и вновь увидал ее перед собой: вот она сидит на краю постели,
стягивает с него брюки, потом трусы - медленно, очень медленно, наслаждаясь
этим действом и нежно улыбаясь. Расслабься, Лукас Корсо. Однажды она тайком
сфотографировала его: он спал на спине, лоб пересекала вертикальная
морщина, тень пробившейся за ночь щетины затемняла щеки, и оттого лицо
казалось худым, а складка у полуоткрытых губ - суровой и горькой. Он
напоминал изможденного, выбившегося из сил волка, злобно озирающегося на
подушке, похожей на снежную равнину. Фотография ему не понравилась - он
случайно обнаружил ее в кюветке с фиксажем в ванной комнате, которую Никон
использовала как лабораторию. Он разорвал снимок на мелкие кусочки, негатив
тоже, и Никон больше ни разу ни словом не упомянула об этом эпизоде.
обожгла кожу, даже векам стало нестерпимо больно, но он, сжав челюсти,
напрягшись всем телом, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, продолжал
стоять, хоть и готов был завыть от тоски и одиночества. Целых четыре года
один месяц и двенадцать дней повторялось одно и то же: из постели Никон
тянула его под душ и медленно, бесконечно медленно намыливала ему спину. И
потом нередко прижималась к его груди, как маленькая девочка, затерявшаяся
под дождем. Однажды я уйду, так и не узнав тебя. Тогда ты станешь
вспоминать мои большие темные глаза. Мои невысказанные упреки. Мои горькие
стоны во сне. Мои кошмарные сны, которые ты не умел прогонять. Вот что ты
станешь вспоминать, когда я уйду.
что это влажное поле слишком похоже на один из кругов ада. Что ж! Ни до
Никон, ни после никто не вел его в душ, не намыливал ему осторожно и нежно
спину. Никогда. Никто. Никогда.
Но прочел лишь несколько строк:
массе своей вели себя как люди чести..."
скорчил гримасу. И вспомнил слышанные в детстве слова, их произнес то ли
один из его дедов, то ли отец: "Мы, испанцы, только в одном превосходим
других: лучше всех получаемся на картинах Гойи"... "Люди чести", сказал
Наполеон. Корсо подумал о Варо Борхе с его чековой книжкой, о Флавио
Ла.Понте, о библиотеках, доставшихся в наследство вдовам и за бесценок
скупленных букинистами-грабителями.
самом, готовом служить сторожевым псом тому пастуху, который сильнее и
лучше. Что ж, просто тогда были иные времена.
окном. Слишком рано.
до него дошло, что звонил не будильник, а телефон. Трубка дважды падала на
пол, пока он пристраивал ее между ухом и подушкой.
вестибюле. Нам надо поговорить. Немедленно.
Корсо отыскал очки, откинул простыню, натянул брюки. Потом в припадке
панического страха заглянул под кровать - сумка лежала там, в целости и
сохранности. Он с трудом цеплялся взглядом то за один, то за другой
предмет. В комнате сохранялся прежний порядок, а вот снаружи происходило
что-то неладное. Он едва успел зайти в ванную и сполоснуть лицо, как в
дверь постучали.
плече. Глаза ее были еще зеленее, чем прежде.
нужно как можно быстрее одеться.
поглядывала по сторонам. - У нас совсем мало времени.
по-прежнему была похожа на мальчика, по-прежнему была юной, но что-то в ней
переменилось: она выглядела взрослее и гораздо увереннее в себе. - Я говорю
вполне серьезно.
обратно в руки и указал на дверь:
льдинки, ослепительно сверкающие на фоне загорелого лица. - Вы знаете, кто
такой Виктор Фаргаш?
собственное лицо: лицо болвана, застывшего с открытым ртом.
выдав удовольствия от полученного эффекта. Было ясно, что мысли ее заняты
чем-то другим.
сообщала, что выпила на завтрак чашку кофе или сходила к дантисту.
нормально.
никак себя не чувствует.



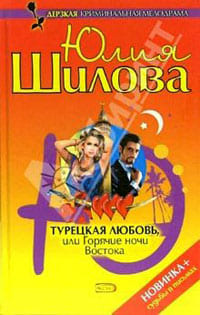
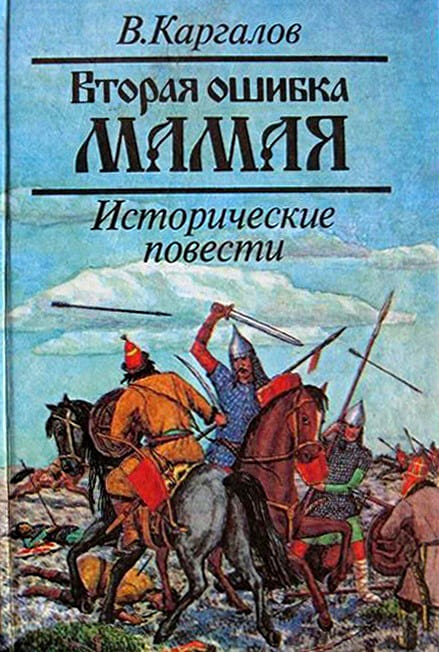
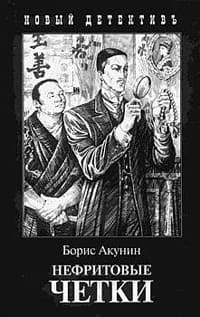
 Максимов Альберт
Максимов Альберт Шилова Юлия
Шилова Юлия Курылев Олег
Курылев Олег Флинт Эрик
Флинт Эрик Маркелов Олег
Маркелов Олег Прозоров Александр
Прозоров Александр