Шмиэл Сандлер
МОЙ ЛЮБЕЗНЫЙ ВЕНЬЯМИН
Неделю я не заглядывал в каракули Уилла. Бог знает, заглянул бы я туда
вообще, если бы Уилл не умер.
В воскресенье утром мне позвонил доктор Берштейн и сообщил прискорбную
весть:
- Старина, мне жаль... Мне очень жаль, я не хотел тебя огорчать...
- Что случилось, Аркадий? - спросил я, предчувствуя беду.
- Иванов повесился.
- Как повесился?
- На собственных подтяжках, - последовал циничный по форме и трагический
по сути, ответ.
Берштейн был уверен, что это самоубийство. Но я не сомневался, в том, что
кому-то понадобилось убрать парня, и этот некто настиг его даже в больнице.
- Кажется, он оставил тебе дневник, - заметил Берштейн, - почитай-ка его
на досуге и ты увидишь, что он сумасшедший...
Тело Уилла обнаружили ночью в туалетной комнате психиатрической больницы
"Абарбанель"
Когда его снимали с петли в глазах у него стояли слезы. Умирая, Уилл
плакал, и это обстоятельство Берштейн использовал как аргумент для
подтверждения своей версии:
- Видишь, - сказал он мне, - перед смертью плачут только самоубийцы.
Вспомни Есенина, у него тоже слезы не просохли, когда его из петли
вынимали.
Берштейн был педантичным человеком и регистрировал в картотеке все
прежние Уилловы попытки произвести расчеты с жизнью. Он представил
инспектору полиции документальное свидетельство таковых попыток и
следователь, уважая мнение специалиста, не счел целесообразным копаться в
этом и без того очевидном деле.
Осмотрев туалетную комнату и тело удавившегося, инспектор принял версию
Берштейна и в докладной на имя комиссара бат-ямовской полиции логически
обосновал вероятность самоубийства, ссылаясь при этом на авторитетное
мнение доктора Берштейна.
Полицейский комиссар с уважением отнесся к аргументации медицинских
экспертов, тем более что речь шла о душевно больном человеке.
Дело благополучно закрыли, но меня не оставляло тревожное чувство. В
глубине души я был убежден, что здесь что-то нечисто, и чем больше я
вчитывался в Уилловы записки, тем более зрело во мне это убеждение.
За неделю до несчастного случая, я посетил больного Уилла и он сказал
мне, что перевел на мой счет пятизначную сумму в долларах. Тогда я был
просто ошеломлен - откуда у пьяного попрошайки такие сумасшедшие деньги,
теперь же, когда его не стало, я ощущал моральный долг непременно самому
разобраться в загадочных причинах его гибели.
Честно говоря, разбираться я стал бы, даже если бы он не оставил мне
денег. С того времени как он попал в больницу, я чувствовал себя отчасти
повинным в постоянно преследовавших его неудачах.
Теперь, когда прошло столько лет, я не могу уверенно сказать, при каких
обстоятельствах я впервые встретил Уилла Иванова. То ли это было после
пьяной драки, когда Уиллу разбили голову, и я отвел его полуживого домой.
То ли в пабе адона Фридмана - человека весьма знаменитого в нашем городе.
Уилл заглядывал в его питейные заведения и мы вполне могли там встретиться.
Но кажется мне, что впервые я увидел Уилла на похоронах его отца -
Константина Сергеевича Иванова. Уж очень убивался парень над гробом
родителя и это мне запомнилось.
Более всего, однако, я помню сами похороны. Они были очень уж пышные и
как отмечалось на страницах местных русскоязычных газет " с оттенком
излишней помпезности"
На панихиде присутствовало много русских. Среди них два человека бывшие в
свое время почетным членами общества "Знание", и еще несколько лиц
представляющих объединение выходцев из Средней Азии.
Константин Сергеевич Иванов был в Ташкенте не пророк, конечно, но лицо
весьма авторитетное. В Израиле жизнь его не сложилась, он спился и
проживал в ужасающей бедности.
Человек европейской культуры, он не понимал левантийскую ментальность
сефардских евреев (несмотря на то, что мать его принадлежала к этому
славному колену), взъярился на страну, запил и превратился в злобного
антисемита.
Его пышные похороны финансировало "Объединение выходцев из Средней Азии",
председателем, которого он состоял некоторое время.
Отец Константина Сергеевича, и дед Уилла, Сергей Константинович
Иванов-Голубкин был потомственный дворянин, увлекшийся идеями Владимира
Ульянова, функционер, которого партия направила устанавливать Советскую
власть в Узбекистане.
В Ташкенте он женился на бухарской еврейке дочери кокандского масло
заводчика, жертвовавшего немалые суммы в пользу большевистской партии.
Сергей Константинович был вхож в дом партийного мецената и именно здесь
юная и кареглазая Рахель поразила воображение пожившего уже в свое
удовольствие революционера.
Вне дома Рахель, по местным обычаям, была закутана в темную паранджу и
некоторый романтизм, который находил в сей дикости Сергей Константинович
окончательно укрепил его в решении просить руки шаловливой смуглянки.
Это был третий брак их бывшего сиятельства, в результате которого у него
родился сын нареченный в честь деда (графа Голубкина) Константином.
В отличие от отца, старого партийца из тех еще просвещенных московских
аристократов, Константин пошел по военной стезе и дослужился в НКВД до
звания полковника.
Всю жизнь, преуспевающий кадровый офицер, старался скрыть от начальства
факт своего еврейства (тем более что мать свою он почти не помнил - она
умерла, когда он был ребенком), но после отставки, поддавшись общему
эмиграционному психозу, репатриировался в Израиль, где уже родился Уилл от
йеменской еврейки, умершей при родах.
Женитьба на сефардской еврейке была отчаянной попыткой, увы, не имевшей
успеха, интегрироваться с "аборигенами". Полковник прожил в стране
двадцать лет и, несмотря на то, что, был женат на израильтянке, не мог
связать на иврите два слова. Как он познакомился с женой и на каком языке
они вообще говорили, так и осталось для всех загадкой.
По завещанию супруги сын был назван еврейским именем Ури. Европейскому
уху полковник имя сие ничего не говорило и он переименовал первенца в
Уильяма - в честь американского писателя Уильяма Фолкнера, книгами
которого зачитывался в юности.
С мальчиком отец общался редко, а когда сердился, обращался к нему
официально и не иначе как:
- Граф, извольте оставить свои жидовские штучки.
Константин Сергеевич говорил с сыном по-русски и это отложило свой
отпечаток на духовном облике Иванова младшего. Учился Уилл в еврейской
школе, но воспитан был на образцах советской культуры и о композиторе
Пахмутовой знал куда больше, чем о королеве песен в стиле мизрахи Маргалит
Цанъани.
Формально Уилл был саброй , но ментальность имел советскую, не ведая при
этом комплекса неполноценности присущего иным репатриантам первого в мире
еврейского государства.
Из дневника Уилла Иванова:
"В Холоне на улице Синедрион в доме ј7 умирал ботаник. Не приведи господь
умирать так мучительно и долго как это было с ним.
Агония длилась уже неделю. Все это время он был в сознании и очень
переживал, что доставляет окружающим столько забот и это во время дикой
боли.
Старик жил этажом ниже моей квартиры и я почти безвылазно находился при
нем, пытаясь хоть чем-то облегчить его последние часы.
Страдания умирающего усугублялись при мысли о том, что соратники и
друзья, дежурившие у его постели, были вынуждены носить после него судно.
Но соратники не находили в этом ничего унизительного. Старик был почетный



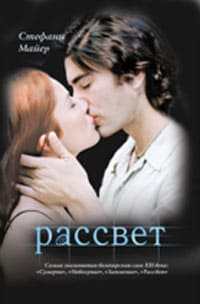
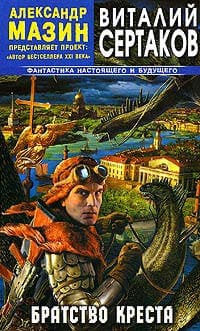

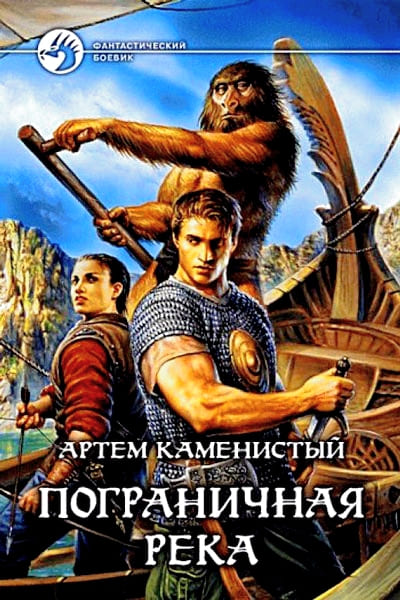 Каменистый Артем
Каменистый Артем Шилова Юлия
Шилова Юлия Каменистый Артем
Каменистый Артем Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Пехов Алексей
Пехов Алексей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий