оглядел себя, привыкая к своему новому обличью.
Вскоре, адаптировавшись в незнакомой обстановке, он неуверенно засеменил
на тонких лапках к узкой полоске света, пролез в нее и понял, что выполз
из-под кровати и находится в спальне своей квартиры.
После двух недель "интенсивных научных исследований" Ахмаду предложили
подорвать себя в логове исламских экстремистов, но вместо этого он
разразился многочасовой словесной тирадой о недопустимых методах борьбы с
арабскими патриотическими группировками.
- Ах ты, демагог вонючий! - с досадой сказал Хульдаи и решил предать
останки провонявшего трупа земле.
- Он не представляет никакой стратегической ценности, - заявил профессор
на очередном заседании Совета безопасности, - и кроме сардонических
филиппик по адресу несовершенств израильской демократии ни на что более не
способен.
Предложение о том, чтобы использовать Ахмада в качестве камикадзе в
локальных стычках с террористами, было снято с повестки дня.
- Господа, а не нарушаем ли мы этические нормы, предавая человека
незаконному погребению? - забеспокоилась вдруг депутат от русской фракции
Мария Колодкина.
- Во-первых, не человека, а труп, - поправил ее министр по внутренней
безопасности, - а, во-вторых, если мы оставим его на свободе еще некоторое
время, его речи будут цитироваться с высокой трибуны ООН.
- С каких это пор мы стали бояться критики? - сказала Мария Колодкина.
- Если бы это была конструктивная критика, - горько пожаловался Когаркин,
- а то ведь просто дешевая демагогия.
Ахмада поместили в просторный гроб и похоронили на арабском кладбище в
Лоде. В числе провожающих старьевщика в последний путь были профессор
Шломо Хульдаи, сержант Альтерман, а так же взвод полицейских с кирками и
лопатами. Все время, пока араба бережно опускали в могилу, из гроба глухо
доносился его голос, что весьма смущало полицейских, и даже корифея
отечественной науки всегда невозмутимого профессора Хульдаи, кажется,
слегка покоробило. Последние слова Ахмада буквально потрясли всех
присутствующих::
- Убийцы! - истошно вопил он, - вы закапываете меня за то, что я араб...
Иуду вы не станете хоронить, потому что он еврей, а ведь в нем душа моя,
убийцы!
Альтерман, ближе всех стоявший к гробу, не выдержал:
- Иуда живой человек, - сказал он, - а ты мертвец, Ахмад.
- Почему нет Иуды? - протяжно завыл Ахмад, - он спас бы меня, убийцы!
Когда о странных речах мертвеца поведали комиссару, не явившемуся на
похороны
из-за "плотного рабочего графика" тот почувствовал неловкость, которую,
впрочем, успешно скрыл от окружающих; не стоит заострять внимание
сотрудников на данном инциденте. Каждый из них видит в нем преемника души
Ахмада и ждет, чтобы он разрыдался, жалея араба. Хорошую, однако, шутку
отмочил этот мертвяк. А может быть все это происки врагов, решивших таким
образом дискредитировать его героический образ?
* * *
Тяжелое душевное напряжение горожан достигло критической точки. Люди
боялись выходить из домов за покупками, а в случае нужды передвигались по
городу группами в сопровождении армейского патруля или профессиональных
телохранителей, заламывающих за свои услуги баснословные цены. Как всегда
наибольшей панике способствовала пресса, не устающая запугивать население
наскоро сфабрикованными газетными утками. Одно из последних сообщений
подобного рода было напечатано в газете "А-Арец". В короткой экспрессивной
заметке авторитетного издания утверждалось, что малолетние дети Елизаветы
Шварц были найдены мертвыми в могиле своего прадеда, героя Войны за
Независимость генерала Хильмана. Неизвестно, откуда извлекли на свет
данную информация, но урон работе полиции она нанесла колоссальный.
Комиссару Вольфу пришлось долго опровергать эту дикую дезу, и он пригрозил
подать на редактора в суд за "умышленную дестабилизацию населения"
Но газетчиков не так-то легко было запугать. Они давно уже засыпали
полицию вопросами о судьбе пропавших детей и той, по существу, нечего было
отвечать. Угрозы комиссара, если бы он всерьез задумал осуществить их,
попросту обратились бы против него самого. Слава Богу, он не настолько
глуп, чтобы игнорировать общественное мнение. Стражам порядка давно уже
было не до детей, неуловимый герцог и непредсказуемые привидения занимали
все их свободное время. Если бы не страх перед трупами, будто бы
пожирающими случайных прохожих, криминальные элементы давно бы погрузили
город в преступный хаос и вакханалию. Ни в какой суд комиссар не собирался
обращаться, но успокоить народ, озабоченный судьбой пропавших детей, давно
следовало, и он решил навестить в больнице Елизавету Шварц. Для этого он
пригласил в палату "Грязных писак" и постарался, чтобы визит его к
пострадавшей был обставлен как можно торжественнее и широко освещался
средствами массовой информации.
- У меня никогда не было детей, дрогнувшим голосом сказал он Лизе, и
отныне я буду искать ваших, так, как если бы они были моими.
Его прочувствованные слова произвели впечатление на несчастную мать, но
оставили равнодушными журналистов. Подобные обещания от комиссара они
слышали каждый день.
Иуда Вольф прибыл в свой кабинет совершенно разбитый. Вид убитой горем
Елизаветы, то и дело вопрошающей о судьбе пропавших малюток, произвел на
него тягостное впечатление. У него самого было трудное детство в Сибири и,
женившись (уже состоятельным молодым человеком в Израиле), он решил
никогда не заводить детей, что с энтузиазмом поддержала Ривка, которой
роль львицы тель-авивских салонов нравилась куда больше, нежели скучные
обязанности кухарки большого семейства.
Визит к пострадавшей настроил комиссара на лирический лад, он
расчувствовался, вспомнив суровые сибирские будни и сбор металлолома, в
котором он всегда отличался, будучи школьником, но не был поощряем из-за
своего еврейского происхождения; председатель пионерской дружины, членом
которой состоял будущий комиссар полиции, был евреем и старался унизить
своих соотечественников, чтобы в глазах других выглядеть лояльным. Юный
Вольф не мог стерпеть такой несправедливости, и однажды сильно поколотил
еврейского антисемита, за что был с позором изгнан из пионерской дружины и
отстранен от сбора металлолома впредь до окончания средней школы.
Обычно Иуда Вольф любил вспоминать о своем нелегком сибирском детстве, но
сегодня ему было не до сантиментов. Весь этот трудный и напряженный день
(даже во время своего исторического визита в больницу), он был мысленно
занят детальной разработкой плана встречи с герцогом и свои наиболее
значительные идеи по этому поводу записывал на обратной стороне сигаретной
пачки, которую в течение дня не успел даже распечатать. После
продолжительных раздумий и обстоятельных консультаций с министром по
внутренней безопасности, он решил пригласить рыцаря к себе в дом, вернее в
номер гостиницы, где проживал после пожара. "Пусть полюбуется, скотина, в
каких условиях я теперь живу"
Он передал свои требования Ривке. Но герцог, в принципе, согласный на
переговоры с полицией, назвал комиссара христопродавцем и предложил
встретиться на нейтральной территории - в одном из ресторанов на
набережной Тель-Авива. Иуда Вольф долго обдумывал предложение герцога, и в
этом беспрерывном процессе раздумий - принять или нет ультиматум
спесивого аристократа - заключалась плотность его рабочего графика.
Придя после больницы в номер гостиницы, он взвешивал предложения герцога
до тех пор, пока случайно не заснул в просторном вольтеровском кресле.
Глубокой ночью его разбудил звонок в прихожей. Еще не пробудившись
окончательно, сонной походкой человека, которого против воли подняли с
постели, он подошел к двери, открыл ее и замер: перед ним стоял Ахмад. Его
арестантская роба была измазана густой кладбищенской грязью, в руках он
держал кусок отполированной доски - вероятно, крышку гроба.
- Иудушка, - сказал он с укором комиссару, - почему тебя не было на
похоронах? - Изрыгая проклятия, комиссар с воем побежал к телефону:
- Срочно пришлите наряд полицейских! - безумно орал он в трубку, чувствуя
затылком мерзкое дыхание мертвеца.
Призывая наряд в номер, комиссар, в спешке, не представился и полиция
(перегруженная в эти дни из-за обилия ложных вызовов тель-авивских
паникеров), прибыла на место происшествия с большим опозданием.
Тем временем покойник встал в позу уязвленного политика и сказал
блестящую речь о предательстве, которая позже была внесена во все
ближневосточные хрестоматии по ораторскому искусству.
- Самым позорным явлением во все времена считалось подлое предательство,
- с пафосом начал Ахмад, - и ты, Иуда, лишний раз доказал миру, как гадок
и мерзок может быть еврей, опустившийся до того, чтобы предать самого
себя. Ты предал меня, Иуда, а ведь я никто иной, как ты сам. До чего
докатился род людской, если люди перестали уважать самих себя. О времена,
о, нравы!
Гневные раскаты голоса покойного торговца разносило по всем этажам
гостиницы. Сначала из соседних номеров повысыпали заспанные лица жильцов,
затем в фойе стали заглядывать любопытные зеваки с улицы. К тому времени,
когда приехали полицейские, вся площадь была запружена народом, и
журналисты, понаехавшие со всего города, во всю интервьюировали
разговорившегося мертвяка.



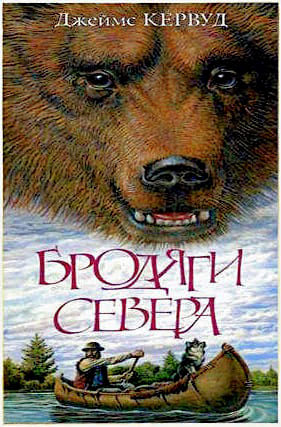

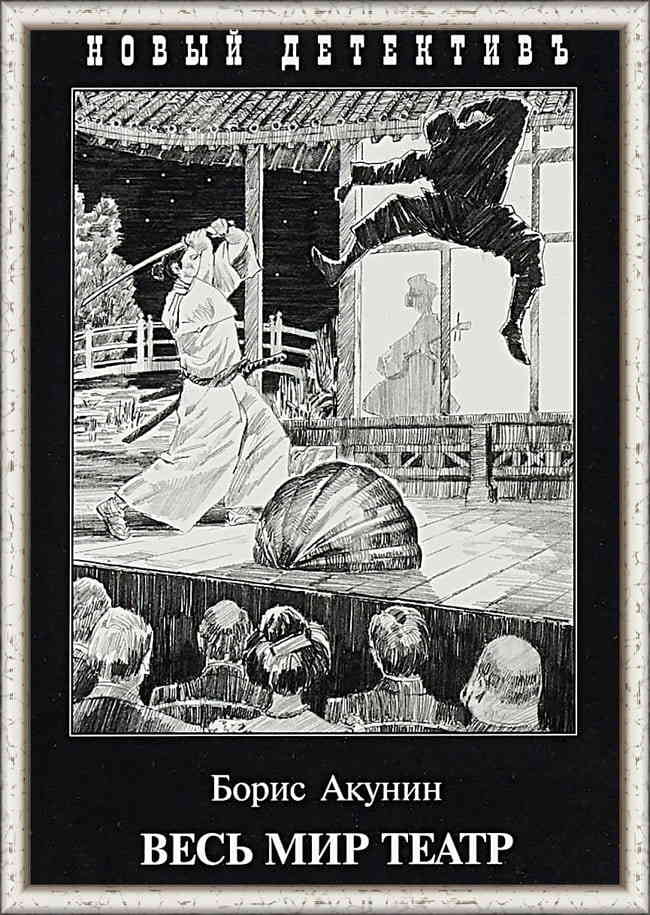
 Эриксон Стивен
Эриксон Стивен Трубников Александр
Трубников Александр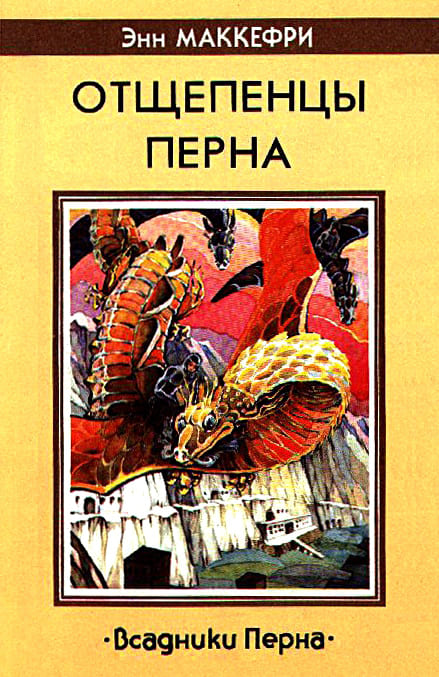 Маккефри Энн
Маккефри Энн Корнев Павел
Корнев Павел Шилова Юлия
Шилова Юлия