Он так неловко упал прямо на середину тротуара, что вокруг сразу же
столпились люди, со всех ног кинувшиеся помогать ему. Народу на улице было
много и он, совершенно отвыкший от людей, радовался в эту минуту всем и
любил каждого. Автомобили резко разрывали окрестности пронзительными
гудками. В воздухе стоял стойкий запах жареного гороха и едких выхлопных
газов. В другое время Кадишман, не задумываясь, оштрафовал бы нарушителей
тишины, но теперь слушал их бесперебойное бибикание, как нежнейшую музыку
незабвенного Вольф Ганга Амодея с Моцартом, как выражалась теща, считавшая
себя поклонницей классической музыки.
Звуки большого города возвращали его к жизни. Никогда раньше, до своей
грустной загробной эпопеи, лейтенант не чувствовал себя таким свободным и
счастливым.
"Неужто это правда, думал Кадишман, я снова дома и я - не таракан?"
Он огляделся и с неистовым выражением лица вдохнул в себя загазованный
воздух большого города. Кто-то толкнул его, да так, что он едва не
растянулся на ровном месте, но он и этому был рад. Кажется, если бы его
оплевали сейчас или даже прибили, он бы целовал ноги обидчикам, будто
презрительными плевками своими они облагодетельствовали его на всю
оставшуюся жизнь.
Наслаждаясь многолюдьем большого города, лейтенант энергичным шагом пошел
в направлении своего дома, надеясь застать его там, где он стоял до того,
как его злосчастный обитатель попал в этот незабываемый и страшный ад с
поэтическим названием "Одиночный мир"
Прием гостей был поистине великолепен. Его величество закатил светский
раут на природе с выпивкой и обильной закуской шотландской кухни. Богато
заставленные столы стояли на зеленой лужайке на фоне великолепного замка с
аркой, висячими садами и укромными колоннадами, где по приказу короля были
установлены бюсты богов, героев и великих людей античного мира.
"Одних фонтанов вокруг с добрый десяток" - с восхищением подумал Вольф,
подставив ладонь под тугую струю воды, падающей из огнедышащих ноздрей
дракона. "У нас бы такая домина стоила миллионов эдак в сто" - соображал
предприимчивый комиссар, прицениваясь к дворцу и, с сожалением вспоминая
руины своего, сгоревшего особняка.
Пока король важно беседовал с Василием, а Цион размышлял, почему это все
вокруг представляется ему в таком искаженном и фальшивом свете, Иуда ловко
опрокинул в себя внушительный рог с вином и с кислой миной стал
принюхиваться к вялой редиске, завезенной сюда из далекой Италии. Он
давно уже присматривался к гостям на лужайке, в надежде обнаружить свою
ветреную супругу; по временной связи она сказала ему, что придет на бал
ровно в два по местному времени. Часы показывали уже половину третьего, а
ее все нет.
Тяжело было у комиссара на душе. Он скучал по Тель-Авиву, по своей работе
и сибирским пельменям, которые обожал есть по субботам. Но еще больше он
скучал по жене, которую ненавидел и любил больше всего на свете. В
сущности, ради нее он и предпринял эту авантюрную поездку в незнакомую
далекую страну, кишащую криминальным сбродом. Он был профессионал и ему не
надо было особо напрягаться, чтобы распознать в придворных вереницу воров,
проституток и дегенератов, еще похлеще тех, что водились в его родной
стране. Если бы не Ривка с ее идиотскими причудами, он ни за что не
поменял бы даже трущобы южного Тель-Авива на эту волшебную, но нежеланную
его сердцу лужайку с ее дворцовыми колоннадами и расфранченными пугалами,
корчащими из себя важных аристократов.
Комиссару не нравилось в Прошлом. Он предпочел бы пить кока-колу в
Настоящем в постели с отзывчивой секретаршей, нежели дегустировать тонкие
вина в обществе короля Англии и его сомнительного окружения.
Печаль комиссара Вольфа была чем-то сродни затосковавшему вдруг Циону;
так же как и оруженосцу, все вокруг казалось ему напыщенным и неискренним.
Но Заярконский тосковал от боли в коленке, и недоверия к подобревшему ни с
того ни с сего лорду-распорядителю, а Вольфа продолжала мучить ревность,
доводившая его до безумия; он понимал, что люди поделом смеются над его
горем, но ничего не мог поделать с собой и думал о Ривке почти все время.
Кавалеры и дамы с удивлением оглядывали нескладную фигуру полицейского и с
опаской обходили его, чтобы невзначай не напороться на это безродное
чучело, не имевшее никакого понятия о придворном этикете; в потертом
кашемировом камзоле, сидевшем на нем мешковато, Иуда и впрямь выглядел
чужаком, случайно прибившимся к высшей знати.
В одной из придворных дам, он узнал вдруг свою легкомысленную супругу:
- Ривка ты здесь, - дрогнувшим голосом сказал он, - отыскивая глазами
герцога, - а где этот урод?
- У меня уже другой урод, - гордо отвечала супруга, - я оставила Балкруа
и теперь хожу в фаворитках у самого лорда-распорядителя.
Она игриво прижалась к сопровождавшему ее, разодетому в пух и прах лорду,
который глупо засиял от удовольствия, услышав свое имя.
- Как? - потрясено, воскликнул комиссар, - вчера еще ты была с этим...
- Сударь, - прервала она, - это по вашим меркам вчера, а у нас уже целая
вечность прошла. - Слово "У нас" больно резануло слух несчастного
рогоносца.
- Стерва! - глухо зарычал он и презрительно оглядел невзрачную фигуру де
Брука, - неужели этот пупс в шлеме чем-то лучше меня?
- Разумеется, - игриво помахивая веером, сказала Ривка, - он, по крайней
мере, знаком с природой клитора и не превращает секс в вольную борьбу.
Это был намек на то, что доминирующую роль в любви Иуда всегда отводил
своей особе. С секретаршей, правда, он был демократичнее, позволяя ей
раскрепощаться в интимные мгновения, но жене такой способ сексуального
самовыражения был заказан. В этом был весь комиссар - грубый мужчина,
самец и поклонник Макиавелли. Он считал нормальным, что каждая пятая
женщина в стране подвергается насилию со стороны мужа, но помалкивает об
этом, боясь огласки. Он никогда не высказывал эти мысли вслух (это было
несовместимо с его общественным положением), но думал и поступал
соответственно своим понятиям, приструнивая при случае любовниц, если они
лезли ему в душу. Исключение делалось одной лишь Ривке, которая сумела
отстоять свою независимость, если не в постели, то, по крайней мере, в
вопросах семейного бюджета.
- Милорд, - улыбнулся Вольфу смутившийся де Брук, - рад познакомится с
Вашей честью.
Обмениваясь любезностями, участники этого забавного треугольника не
обратили внимания на близкое присутствие взгрустнувшего короля; на
мгновение он потерял из виду свою божественную королеву и, желая поручить
ее поиски Лорду-распорядителю, невольно стал свидетелем супружеской
перебранки Вольфов. - "Почему мои придворные знают то, о чем неведомо
мне?" - с досадой спросил он Васю, слегка озадаченный словами жены
комиссара, высоко оценившей познания де Брука в области женской анатомии.
Размолвка между супругами кончилась тем, что несчастный Вольф напился
вдрызг шотландской браги и мирно заснул под ближайшим столом, заставленным
тонкими яствами, приготовленными искусными поварами из Антиохии.
"Назюзюкался регулировщик, - мстительно фыркнула Ривка, увидев комиссара
спящим в обнимку с бычьим рогом, - будет знать, непутевый, как со
студентками шашни крутить"
Возвращение "блудного" Ахмада было настоящим праздником для журналистов.
В короткое время он стал необычайно популярен в прессе, и его долго не
решались предать повторному погребению.
Члены Госкомиссии по национальной безопасности были в совершенном
замешательстве. "Закапывать или нет надоевшего всем араба?"
- Зачем понапрасну возмущать общественное мнение. - Сказала Мария
Колодкина, депутат кнесета от русской фракции. Но тут свое веское слово
сказал профессор Хульдаи:
- Держать живой труп на свободе - противоестественно и небезопасно, -
заявил он, вторично пытаясь избавиться от, ставшего ненужным, объекта
своих неудавшихся опытов.
- Да, но ведь понаедут газетчики, профессор, - брезгливо поморщился
министр внутренних дел.
- И пусть наезжают. Правда, в данном случае, лучше, чем досужие
домыслы. - Журналистов действительно собралось великое множество. Все
ждали от Ахмада эксцентричной выходки, и он никого не разочаровал.
- Профессор, - обречено сказал Ахмад, когда его повели к цинковому гробу,
- даже заключенным дают последнее слово, а тут меня хоронят навеки
вечные...
И вдруг он заплакал горько и навзрыд. Хульдаи быстро оценил обстановку и
рассудил - если не дать последнее слово этому ломаке и резонеру, завтра во
всех газетах мира израильтян будут осуждать за жестокосердие по отношению
к национальному меньшинству в стране и проведении экспансионистской
политики на Ближнем Востоке.
- Хватит паясничать, Ахмад, - сказал профессор, - говори скорее свою
речь и живо полезай в гроб, надоело!
- Каков регламент? - деловито отозвался Ахмад.
- Три минуты, надеюсь, тебе хватит? - сказал Хульдаи.






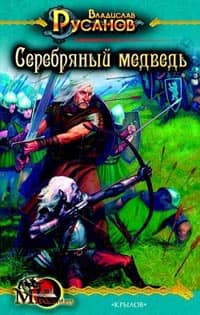 Русанов Владислав
Русанов Владислав Лукин Евгений
Лукин Евгений Пехов Алексей
Пехов Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия Гуревич Георгий
Гуревич Георгий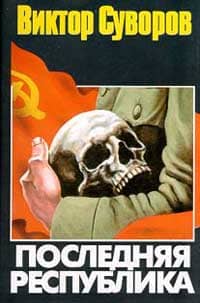 Суворов Виктор
Суворов Виктор