лекарства, украденные со складов СС. В последний раз я видел ее в рижском
порту, когда нас сажали на корабль...
и ежедневные зверства превратили мое некогда сильное тело в мешок костей. Из
осколка зеркала на меня смотрел изможденный, небритый старик с воспаленными
глазами и впалыми щеками. Недавно мне исполнилось тридцать три, но выглядел
я вдвое старше. Как и все остальные.
умирали от холода и непосильной работы, как их расстреливали, пороли или
избивали до смерти. Протянуть даже пять месяцев, что удалось мне, считалось
чудом. Жажда жизни, вначале одолевавшая меня, постепенно исчезла, осталась
лишь привычка к существованию, которое рано или поздно оборвется. Но в марте
произошел случай, давший мне силы прожить еще год.
день второй отправки в Дюнамюнде. Месяц назад мы впервые увидели тот
необычный фургон. Размером он не уступал большому автобусу, но без окон,
выкрашен был в стальной цвет. Он остановился у самых ворот гетто, а на
утренней перекличке Рошманн объявил, что в Дюнамюнде, в восьмидесяти
километрах от Риги, открылся рыбоконсервный завод. Работать там легко,
сказал он, кормят хорошо и вообще живется вольготно. Работа не тяжелая,
посему поедут туда только старики, женщины, больные, слабые и дети.
строя, выбирал тех. кто поедет, и на сей раз старые и слабые не хоронились
за спинами сильных, не кричали и не сопротивлялись, как бывало, когда их
тащили на экзекуцию, а, наоборот, всячески старались себя показать. В конце
концов набралось больше ста человек, их посадили в фургон. Когда его двери
закрылись, мы заметили, как плотно они прилегали к кузову. Фургон поехал, но
выхлопных газов не было. Потом мы все-таки узнали, что это за машина. Не
было в Дюнамюнде никакого завода. Тот фургон был душегубкой. И с тех пор
"отправка в Дюнамюнде" стала означать верную смерть.
и точно, на утренней перекличке Рошманн объявил о нем. Но теперь никто уже
не рвался вперед, потому Рошманн, широко улыбаясь, сам пошел вдоль строя,
толкая рукоятью плети в грудь того, кого назначал ехать. Внимательно
разглядывал он последние ряды, где обычно стояли слабые, старые и
неспособные работать.
шестидесяти пяти, но, чтобы выглядеть моложе, она напялила туфли на высоких
каблуках, черные шелковые чулки, юбку выше колен и игривую шляпку,
нарумянила щеки, напудрила лицо, накрасила губы.
расплылось в довольной улыбке.
внимание своих приспешников, охранявших тех, кого уже приговорили к смерти.
- Не хотите ли вы, юная леди, прокатиться в Дюнамюнде?
- Семнадцать, двадцать?
красивые девушки. Выйди, выйди, чтобы мы все могли полюбоваться твоей
молодостью.
площади. Поставил на виду у всех и сказал: "Ну-с, юная леди, не станцуете ли
вы нам, раз уж вы такая молодая и красивая?"
что-то прошептала.
ты, не умеет танцевать?
исчезла с лица Рошманна.
"люгер" и выстрелил в песок у самых ног старухи. От страха она подскочила
почти на полметра.
песок у ног старухи пулю за пулей, приговаривая: "Пляши!"
целых полчаса. Наконец она в изнеможении упала наземь, лежала не в силах
подняться даже под страхом смерти. Рошманн выпустил три последние пули около
лица старухи, запорошив ей глаза песком. После каждого выстрела она
всхлипывала на всю площадь.
сапогом в живот. Мы молчали. Но вдруг мой сосед начал вслух молиться. Он
принадлежал к секте хасидов, был невысок, с бородкой, в длинном черном
пальто, свисавшем лохмотьями. Несмотря на холод, заставлявший нас опускать
уши на шапках, он носил широкополую шляпу своей секты. И вот он начал
декламировать из священной книги Шема, все громче повторял дрожащим голосом
бессмертные строки. Зная, что Рошманн рассвирепел окончательно, я тоже стал
молиться, но молча, просил Бога заставить старика замолчать. "Слушай, о
Израиль..." - пел он.
как принято у иудейских канторов, не обращая на меня внимания. В тот самый
миг Рошманн перестал кричать на старуху. Он поднял голову и, словно зверь на
запах, повернулся к нам. Я был выше соседа на целую голову, поэтому Рошманн
поглядел на меня.
- Сомнений не было, он указывал на меня. "Вот и конец, - подумал я. - Ну и
что? Рано или поздно это должно было случиться". Когда Рошманн оказался
передо мной, я вышел из строя.
овладел собой и улыбнулся той спокойной волчьей улыбкой, которая вселяла
ужас во всех обитателей гетто, вплоть до охранников.
почувствовал лишь, как что-то негромко шлепнуло по моей левой щеке, и тут же
меня оглушило, словно над ухом взорвалась бомба. Потом я отчетливо, но
как-то отрешенно ощутил, что щека разошлась от виска до губы, словно гнилая
тряпка. Еще не успела выступить на ней кровь, как Рошманн ударил меня вновь.
На сей раз плеть располосовала правую щеку. Это был полуметровый арапник с
гибкой стальной рукоятью и усеянным кожаными шипами наконечником, способным
разрезать кожу, как бумагу.
потом снова на меня, указал на старуху, которая все еще лежала посреди
улицы, обливаясь слезами.
улице. Я опустил ее на пол фургона и уже собрался уходить, как вдруг она
лихорадочно вцепилась мне в руку. Старуха уселась на корточки, притянула
меня к себе и видавшим виды батистовым платочком вытерла мне кровь с лица.
Обратив ко мне заплаканное, запорошенное песком лицо с подтеками туши и
румян, на котором глаза блистали словно звезды, она прошептала: "Сынок мой,
ты должен жить. Поклянись что выживешь. Что вырвешься отсюда и расскажешь
им, тем, кто на свободе, что случилось с нами. Обещай мне именем Господа".
полпути лишился чувств...
дневник, по ночам выкалывать имена и даты на коже ног, чтобы когда-нибудь
можно было восстановить все, происшедшее в Риге, и выдвинуть против изуверов
точные обвинения; во-вторых, стать "капо", охранником.
обратно, а нередко и на казнь. Мало того, они были вооружены дубинками и
зачастую на виду у эсэсовцев били своих же бывших товарищей, чтобы те
работали еще усерднее. И все же первого апреля 1942 года я обратился к шефу
"капо" с просьбой взять меня к себе на службу. В "капо" всегда не хватало
людей, потому что, несмотря на лучший паек, менее скотскую жизнь и
освобождение от каторжной работы, туда шли очень немногие...
ведь таких в Риге по приказу Рошманна уничтожили тысяч семьдесят. Из каждых
пяти тысяч узников, прибывавших к нам в одном товарном эшелоне, около тысячи
приезжали уже умершими. Редко когда в пятидесяти вагонах оказывалось всего
двести - триста трупов.
причем не только из них, но и из нас тоже. Вот поэтому нас и пересчитывали
каждое утро и вечер. Из вновь прибывших отбирали хилых и слабых, большинство
женщин и почти всех детей. Их строили в стороне. Остальных пересчитывали.
Если таких набиралось две тысячи, то и из старожилов отбирали две тысячи
смертников. Так исключалось перенаселение гетто. Заключенный здесь мог
выдержать полгода или чуть больше, но рано или поздно, когда его здоровье
было подорвано, плеть Рошманна тыкалась ему в грудь, и он присоединялся к
обреченным...
Журчащий лес, немцы переименовали в Хохвальд, или Высокий лес. Здесь, под
высокими соснами, рижских евреев перед смертью заставляли рыть огромные ямы.
Здесь эсэсовцы по приказу и на глазах Рошманна расстреливали людей, ставя их
так, чтобы они падали в ямы. Потом оставшиеся в живых засыпали трупы землей.
Так, слой за слоем, ямы доверху наполнялись телами.


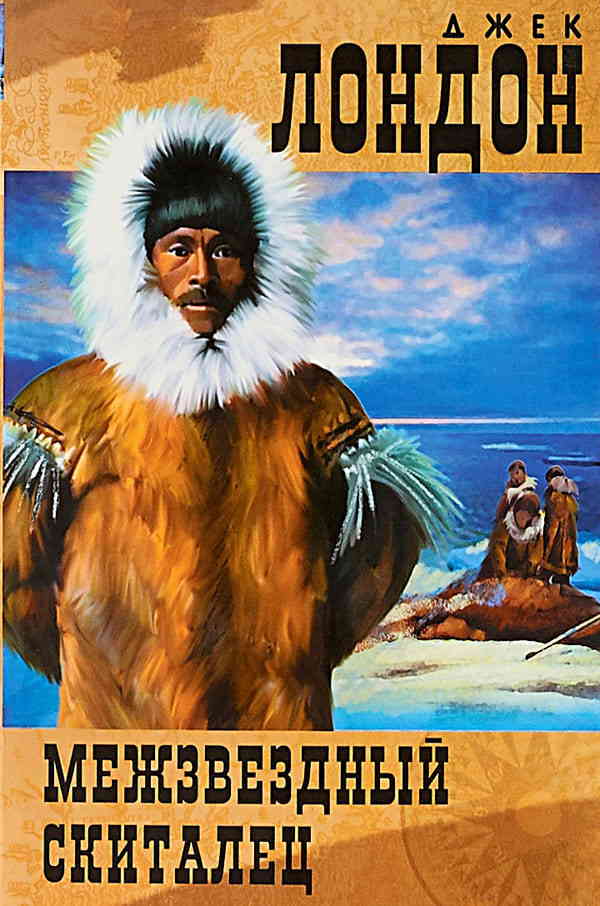



 Никитин Юрий
Никитин Юрий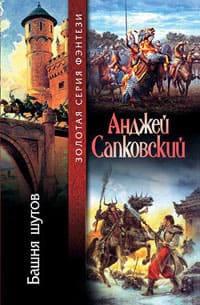 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей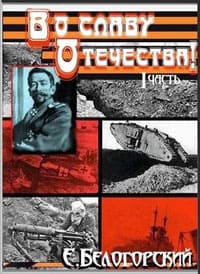 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений Вронский Константин
Вронский Константин Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Флинт Эрик
Флинт Эрик