тихий, все терпел. Но не выдержал, выхватил однажды шприц у сестры и всадил
ей в ногу. Теперь овощ. А вон тот, тоже умный, окошко ночью в коридоре
вышиб. Сбежать хотел. Тоже овощ. Дрочит с утра до вечера.
задергался, завизжал, как поросенок. В палату тут же вошли санитар и сестра
со шприцем наготове. Толстяка водрузили назад на койку, вкололи полный
шприц. Он затих.
закрывались сами собой. Но надо было договорить с соседом, единственным
нормальным на всю палату. Раз он сумел таким остаться, значит, с ним надо
договорить, чтобы все знать заранее.
таким же диагнозом.
овощем не стал?
этот год.
уснул.
сквозь зарешеченное окно, обход, целое стадо врачей и сестер в белых
марлевых масках, опять укол, потом завтрак, такой же, как в интернате:
рисовая каша, жидкое приторное какао, кубик масла в капельках воды на ломте
серого хлеба. За столом многие ели кашу руками или лакали из мисок, как
собаки.
как в интернате, ловко прятал за щекой, а потом выплевывал. Но однажды
проглотил нечаянно, хотел побежать в туалет, сунуть скорей два пальца в рот,
чтобы вырвало. Но стало лень бежать, и сил не было. Один раз - ничего
страшного, решил он. А вечером опять нечаянно проглотил две таблетки.
такой же сизый, как небо за окном, как лица "овощей". И почему-то все время
хотелось есть. Голод сделался главным чувством и рос с каждым днем, заслоняя
все остальное - ненависть, страх, отчаяние.
койке лежал совсем маленький мальчик, не старше шести. Он ни с кем не
разговаривал, только плакал, накрывшись с головой одеялом.
тарелки, он вдруг услышал:
Славик.
Сбегать не буду. Нет у меня никакой мамы. Если и была, то бросила меня,
сволочь, и искать ее нечего. А я выдержал, Козлов, выдержал. Морду никому не
набил, вел себя тихо. И меня выписывают, назад в интернат. Я отойду от
уколов, стану опять нормальный. А ты, Козлов, не вылизывай тарелку, как
собака. С этого все начинается.
вылизывать тарелку? Жрать-то хочется, а там столько остается. Как же не
вылизывать?
мокрой. Он сначала не сообразил, что произошло, а потом его вдруг обожгло,
как каленым железом. Нет. Вот этого не будет. Никогда.
хотел. Лучше умереть, чем стать писуном, или пнем, или овощем. Славик прав,
нельзя вылизывать тарелку, как собака. С этого все начинается. Славик
выдержал, и он выдержит, тоже отойдет от уколов.
клеенка, прошел на цыпочках в коридор. Дежурная сестра спала за своим
столиком, уронив голову на руки. Из открытой двери ординаторской слышался
приглушенный смех. Там пили чай фельдшер и дежурный врач. Коля бесшумно
прошмыгнул мимо, никто его не заметил.
простыню в раковине, аккуратно развесил на раскаленной батарее. И стал
отжиматься на кафельном полу, повторяя шепотом:
четыре, пять, шесть... Я всех ненавижу... семь, восемь, девять...
лечь на холодный кафельный пол, распластаться, как тряпка, и ни о чем не
думать. Но он продолжал. И пока не отжался двадцать раз, не позволил себе
передохнуть. А потом умыл лицо ледяной водой и сделал еще десять приседаний.
пачкая лицо кашей. Искушение вылизать тарелку было сильным, каша кончилась,
а есть все еще хотелось. Но Коля отнес тарелку в мойку. А в обед было уже
легче с собой справиться.
Удалось отжаться уже двадцать пять раз и сделать двенадцать приседаний...
недели. Теперь он знал точно, что больше никогда сюда не попадет. Ни за что
на свете.
многие попадали туда вновь, до тех пор пока вообще не переставали о чем-либо
думать.
трудно, особенно когда тебе только девять лет и ты еще не отошел от уколов,
в голове тяжелый туман, руки слабые, а все вокруг только и ждут, чтобы ты
сорвался.
нападок и провокаций. Никому нельзя было верить. Дети продавали друг друга
моментально, из страха перед наказанием или за половинку печенья, за
карамельку, за любой съедобный кусок. Коля научился легко справляться с
голодом. Он знал, есть удовольствия куда более яркие, чем половинка печенья.
"домашнего" ребенка покукарекать на уроке, на глазах у всех слизать твой
плевок, вытащить несколько рублей из кошелька учительницы. Но особенно
приятно было потом не дать "домашнему" этот заслуженный сладкий кусок.
доведенного до истерики однокашника поближе к учительской, ловко
уворачивался от ударов, мог сам врезать, но только так, чтобы никто не
видел. Очень быстро драчунов разнимали. И всегда виноватым оказывался не
Коля.
нуждавшиеся в лидере. Он быстро сколотил вокруг себя нечто вроде свиты. В
свиту входили только детдомовские, всего пять человек, пять избранных,
которые подчинялись Коле Козлову беспрекословно. Тень его силы падала на
этих пятерых счастливцев, их тоже боялись, им тоже подчинялись остальные. И
за это они готовы были жизнь отдать за своего жестокого лидера.
помощью свиты, иногда сам. Но всегда только он один понимал, что происходит,
сознательно наслаждался бешенством больных детей и растерянностью усталых
издерганных взрослых. В скучной интернатской жизни Коля развлекался, как
мог. И вместе с ним развлекалась маленькая верная свита.
благополучного, спокойного, и начинал методично издеваться над ним. Ночью
кто-нибудь из свиты мочился в баночку, потом это выливалось потихоньку в
постель к выбранной жертве. И тут же раздавался крик:
доводил себя и воспитателей до исступления. И в конце концов оказывался в
больнице.
легко возбудимых олигофренов до полного безумия, а потом самому тихонько
выскользнуть, разбудить дежурного воспитателя и сообщить испуганным
доверительным шепотом:
женщина носится по беснующейся палате, пытаясь навести порядок. А потом
шепнуть ей на ухо:
страшно.
на следующий день. И никому не приходило в голову заподозрить спокойного,
рассудительного Колю Козлова.
быстренько разбужу, - с искренним сочувствием в голосе говорил Коля
измотанной воспитательнице, - вы не волнуйтесь, вам поспать надо.
воспитателям и учителям. Им трудно было предположить, что в ребенке с таким
диагнозом может быть столько изощренного коварства, даже если этот ребенок
отличается от других детей и является безусловным лидером в классе. Люди






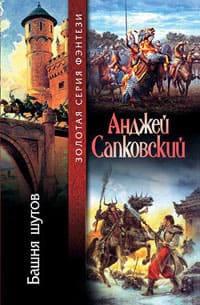 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Смоленский Вадим
Смоленский Вадим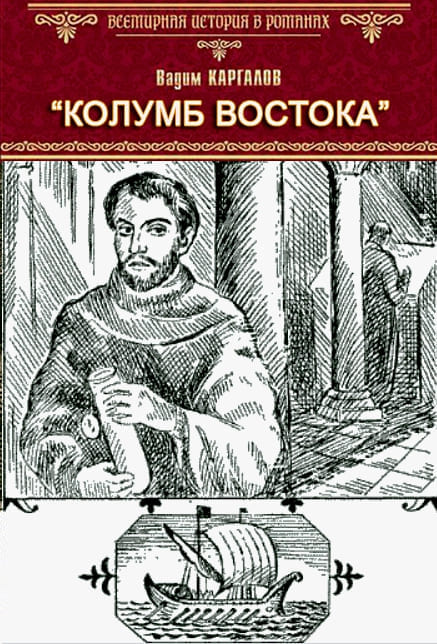 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Никитин Юрий
Никитин Юрий Суворов Виктор
Суворов Виктор Посняков Андрей
Посняков Андрей