Глава 26
отказалась в роддоме от своего сына. У нее не было московской прописки. В
отделе кадров хлебозавода лежал тетрадный листок, расписка: в случае
рождения ребенка укладчица обязуется покинуть занимаемое ею место в
общежитии хлебозавода и никаких претензий к администрации не предъявлять.
кадров называла такие расписки "противозачаточными". Законной силы они не
имели, но на психику девочек-лимитчиц давили.
семейным. Устроиться на другую работу без прописки невозможно. С лимита на
лимит не брали. Если юная провинциалка после случайной любви не успевала
вовремя сделать аборт, у нее был один путь: возвращаться домой, куда-нибудь
в Пензенскую или Саратовскую область, прощаться со сказочной Москвой, падать
в ножки маме с папой и быть готовой к долгому женскому одиночеству, к
громкому злому шушуканью провинциальной молвы. Матерей-одиночек с московским
"приплодом" в провинции не уважают и замуж не берут.
Мани Астаховой мужества не хватило. Дома, в городе Адбасаре Целиноградской
области, мать пила и буянила, отец давно погиб, уснул пьяный за рулем своего
грузовика. С продуктами в Адбасаре было плохо, масло и мясо по талонам, с
промтоварами еще хуже. Все мужское население пило беспробудно. Маня
поплакала, хорошо подумала и предпочла доверить своего новорожденного
мальчика заботливому советскому государству. Может, повезет ему, усыновят
порядочные люди, станет москвичом, будет жить в нормальной квартире.
всяких отклонений.
детском доме он понял: нет ни мамы, ни папы, никто не заступится, никто не
спрячет от беды. А бед у него было много. Дети дразнились и дрались, няньки
и воспитатели орали, наказывали, ночью снились страшные сны, и некому было
пожаловаться.
магнитом тянуло в стаю, к вожаку под крылышко. Пусть вожак жесток и
насмешлив, пусть за его покровительство надо дорого платить. Толя Чувилев
готов был на все, лишь бы не отбиться от стаи. Собственное "я" не было для
него ни цены, ни смысла. Оставаясь один хотя бы на полчаса, он чувствовал
себя как бы голым, выброшенным на мороз. Ему хотелось к кому-то прилепиться,
чтобы было рядом живое, надежное тепло.
смотрел ему в рот, подражал во всем, даже в жестах. Все, что делал Сквозняк,
хорошо и правильно только потому, что это он, Сквозняк. Запас безоглядной
детской преданности, который был щедро отпущен Толе Чувилеву с рождения и
при иных счастливых обстоятельствах мог бы достаться его матери, достался
маленькому лидеру, жестокому и сильному Коле Сквозняку.
возрастом вообще стал жалеть. Значит, так сложилась ее горькая жизнь,
пришлось отказаться от сына. Коля Сквозняк говорил, что все это сопли и
нечего жалеть, привел его как-то ночью в архив, разыскал личное дело.
Федоровна, 1943 года рождения, общежитие хлебозавода ј 5..."
подушку. Он тосковал по нему, как по родному брату. Ни с кем другим не мог
дружить. Лучше Коли Сквозняка никого не было.
обнаружил, что без Колиных жестоких шуток, хитрых издевательств над детьми и
педагогами стало как-то легче. Он и раньше боялся признаться себе самому,
что не нравится ему, когда кого-то заставляют слизывать плевок. Но он
никогда не посмел бы не то что осудить Колю Сквозняка, но даже в глубине
души усомниться в правоте своего лидера.
разобраться самостоятельно он не мог. Да и некогда было думать. Чтобы выжить
одному, без стаи, без вожака, требовалось так много сил - куда уж, тут
думать...
старательно учил уроки. Ему, как многим его одноклассникам, хотелось после
восьмого класса попасть не в спецПТУ, а в обычное, где учатся нормальные
подростки, получить профессию, комнату в общежитии, а если повезет -
добиться снятия диагноза.
характеристикой и четверочным аттестатом.
здание хлебозавода ј 5.
заборе проник на территорию хлебозавода. Побродив по двору среди вагонеток,
подышав запахом горячего хлеба, он вошел в цех укладки, где работали женщины
в белых штанах и рубахах. Батоны падали на железные вертящиеся круги,
женщины перекладывали батоны с кругов на деревянные ящики вагонеток.
встал рядом.
сколько лет?
женщина.
рукавицы прогорели до дыр, и подумал: а хлеб-то какой горячий, жжется.
жаркого хлебного воздуха, - вы не слышали... здесь работала Астахова Мария
Федоровна?
заполнять круг.
задвигались.
перекладывать хлеб с круга на вагонетку.
старухе, - ты Астахову помнишь?
прожженных серых рукавицах.
надо было перекладывать на ящики вагонетки, иначе будет завал, батоны
помнутся, и стоимость брака вычтут из зарплаты укладчиц.
цеха.
бледными маленькими глазами, она смотрела долго, молча и очень внимательно.
А потом отвернулась.
кружиться от жары и этого мелькания. Ему показалось, старуха вовсе забыла о
нем. Он заглянул ей в лицо. Лицо было грубое, красное, совсем старое и
некрасивое.
наконец, - нечего тебе здесь...
не уйдет. Так и будет стоять здесь, пока она не скажет. Ведь знает. Точно
знает... Но почему-то не хочет говорить.
Что расселась? Давай, подмени меня, замудохалась, перекурю.
горячий хлеб, откусывая прямо от батонов. Одна из них поднялась и не спеша
направилась к кругу.
выходу, сквозь строй гремящих вагонеток. Они вышли на улицу. Мягко светило
вечернее сентябрьское солнце. Подъехал грузовик с синими буквами "Мука".
Грузчик в грязном белом халате, пошатываясь и что-то напевая, прошел мимо,
задел Толика плечом, матюкнулся и исчез в белом мучном облаке. Через толстый
шланг из машины качали муку куда-то наверх, в мучной цех. Шланг пыхтел, как
живой.
"Беломора", продула бумажный фильтр, закурила, - очень даже похож. Звать
как?
соседками по комнате были. У ней, как вернулась из роддома, долго молоко не
уходило. Плакала она сильно, потом пить стала. Однажды в роддом пошла,
пьяная, наскандалила там, был привод в милицию. Она еще больше стала пить,
хуже мужика, запоями... Нам здесь квартиры обещают, как семь лет отработаешь



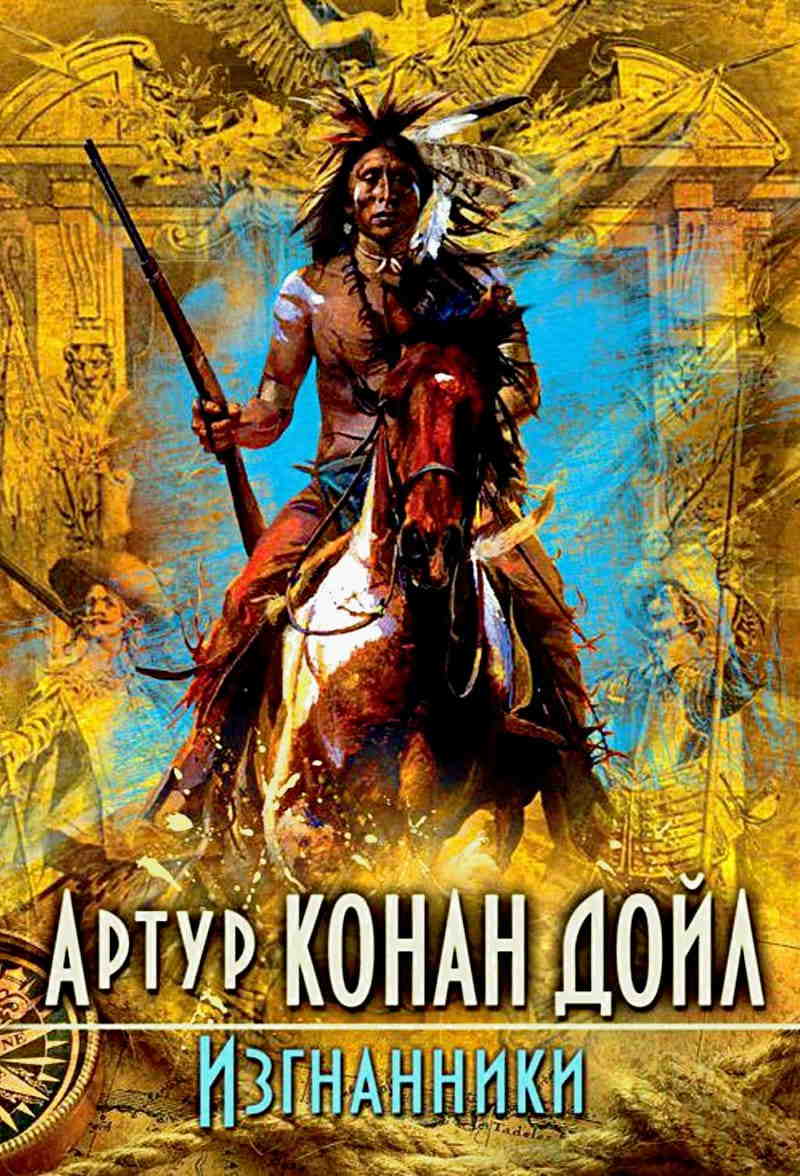

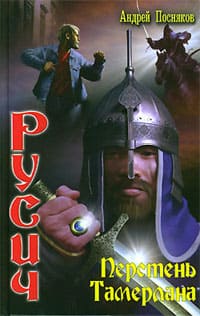
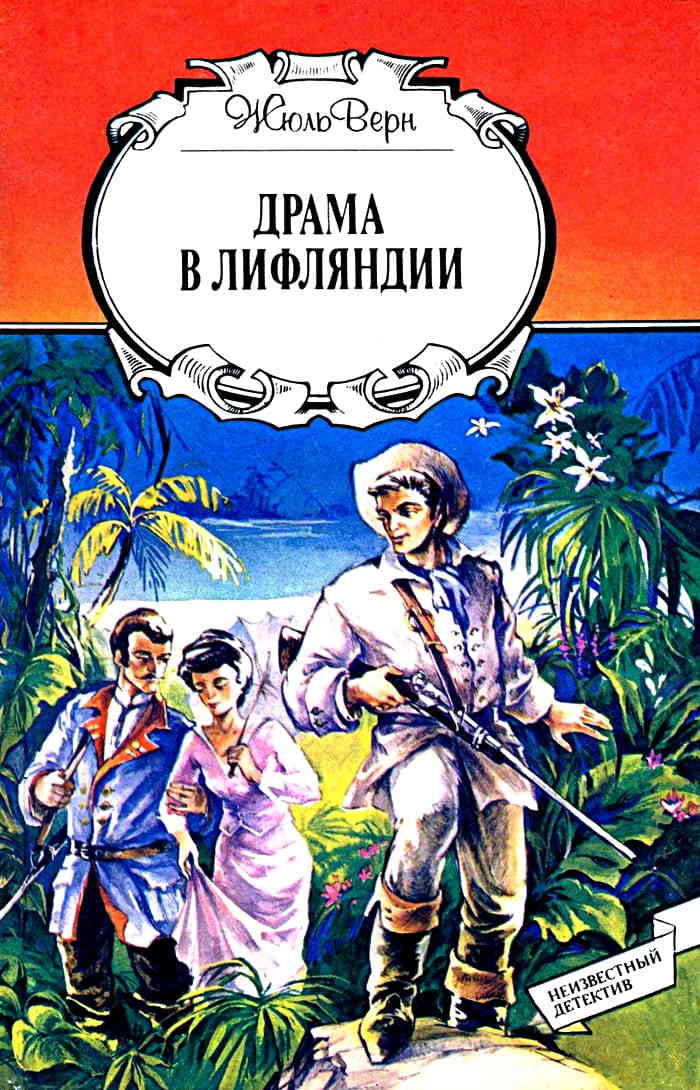 Жюль Верн
Жюль Верн Максимов Альберт
Максимов Альберт Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Корнев Павел
Корнев Павел Афанасьев Роман
Афанасьев Роман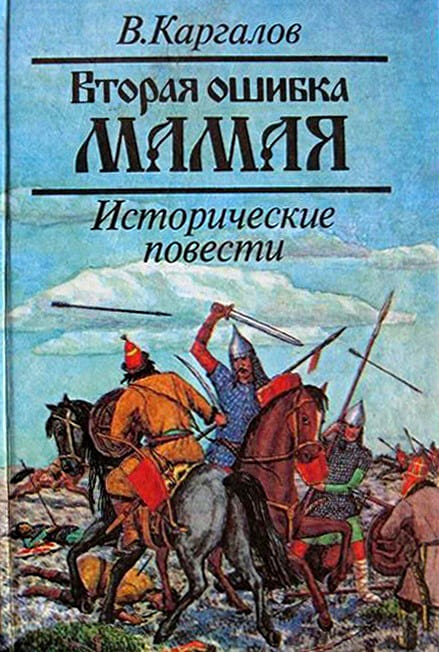 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим