для итальянцев сделала, с перчиком, чаю попили. Ей сыр понравился, так я в
дорогу ей кусок отрезала...
- А про мясо по-французски?
- И про мясо... Часа три мы с ней сидели, ходили. Я еще спросила, а что ты
ничего не записываешь? Журналисты обычно пишут, пишут в блокнот или теперь
магнитофоны подставляют... Она: я запоминаю все, мне писать не нужно.
Оставайся, говорю, ночуешь. В баню сходим на первый парок, а там отец
приедет с итальянцами... Спешу, говорит, ехать далеко. Что бы мне спросить,
куда?.. В предбаннике у нас мыло увидела, попросила кусок...
- И ты ей дала?
- Что не дать-то? Дала... Она так понюхала, подышала, хорошо, говорит,
пахнет. В карман спрятала.
- Земляничное мыло?
- Другого-то и не было... А что ты так спрашиваешь?
- Ничего, мам!.. Потом-то что было?
- Засобиралась она. И одета больно уж легко, в одном платье. А холод на
улице. Стала давать свою старую куртку, надень, говорю, на воде-то
замерзнешь. Она смеется, не взяла. Мол, и так много грузу с собой везу,
лодка не поднимет. Проводила на берег... Думала, там в лодке и правда
какой-нибудь груз, или хоть моторист есть, который ее возит - никого. И
весел нет, и мотора не видать, один руль. Может, где-то спрятан был
мотор-то, что ли... Сама встала к рулю, лодка отчалила и быстро так
поплыла. Рукой помахала и скрылась за поворотом...
- Она адрес какой-нибудь оставила?
- Да нет, я как-то не спросила...
- Из какой газеты тоже не сказала?
- Мне тогда и в голову не пришло. Из газеты так из газеты... А ты не читал
нигде очерка про себя?
- Не читал...
- И я тоже... Все газеты с неделю просматривала - нету. Значит, думаю, из
центральной какой...
- Тебе ничего не показалось странного в ней? - Шабанов все еще боялся
напугать матушку своим восторгом и признанием.
- Как же не показалось?.. Она у меня до сих пор из головы не выходит, -
мать что-то чувствовала, но не показывала виду. - Только уплыла она за
поворот, тут и наши оттуда выворачивают на катере, замерзли, как цупики...
Спросила, видели, девушка на белой лодке поплыла? Не видели!.. Говорю, вот
же за поворотом разминулись! Не было, говорят, ни лодки, ни девушки... И
мне так чудно сделалось, Германка. Что такое, думаю, уж не заболела ли я...
- Нет, мам, не заболела! - засмеялся Герман.
- И еще, знаешь... Сидим вечером за столом, мужики после бани выпили, я с
ними по-итальянски говорю, а отец все ходит по избе и слушает, слушает,
тревожный... Спать легли - уснуть не может, ворочается и слушает. Потом
спросил, дескать, что это все гудит у нас? Я вроде ничего не слышу... Часа
в три ночи встал, оделся, на чердак слазил и говорит - кто махолет трогал?
Кто педали крутил? Ну, я и сказала про Ганю. И ему чудно сделалось, места
не находит. Так веришь, нет, каждый день стал на чердак лазать, будто опять
вспомнил и летать захотел.
- Верю, - Герман приобнял мать. - Вот мне никто не верит...
- А ты и не старайся, коль не верят. Когда командир стал про тебя
рассказывать, да упомянул про навязчивую идею, будто ты в каком-то другом
мире побывал, я сразу смекнула, в чем дело. Но слушаю и помалкиваю. А то
скажет еще, и у матушки с головой не все в порядке, мол, наследственное...
Журналистка-то ведь оттуда приезжала! Лодка-то такая уж белая была, да
такая необычная! Как подумаю, мороз по коже бежит, чудно, да ведь так оно и
есть!
- Мам, а морковка твоя взошла? - хитровато спросил Герман.
Она остановилась, поглядела пристально.
- Только-только начала... Значит, и это мне не привиделось?.. Я уж решила,
от тоски мне грезится. Потом отца крикнула. Он прибежал, рассказываю - не
верит. Даже он не верит, а отец наш, человек чуткий... Потом твои следы
нашел у изгороди. На одном ботинке подошвы нет, протектора. Так поверил...
С кем прилетал-то?
- С Агнессой, мама... С той самой журналисткой из газеты, На самом деле она
не журналистка...
- Так я и подумала... Что же не объявились по-настоящему, не зашли?
- Напугать боялись. А потом... я и сам не верил. Как будто сон, как будто
не со мной все происходит. - Шабанов усадил мать на скамейку. - Это хорошо,
что ты видела и все помнишь. Здесь я не хочу никого убеждать... Мы поедем в
Пикулино! Мы поедем и ты все подтвердишь.
- Что я должна подтвердить-то, сынок? И перед кем?.. Вот, и сам не знаешь.
Посмеются над тобой, и надо мной заодно. Сам говоришь, не верят... И чем
больше станешь доказывать, тем громче смеяться будут и пальцами показывать.
Ты попробуй-ка наоборот, никому ни слова. И посмотришь, сами потянутся,
тихонько выпытывать будут, интересоваться. Потому что самая черствая
человеческая душа всегда ищет чуда и радости...
На следующий день Шабанов провожал родителей в аэропорту и через час сам
улетал в Пикулино на попутном военном транспортнике. Отец уезжал в
невеселом настроении, ворчал, ругался, но никак не хотел говорить причины.
Лишь много позже Герман узнал, что Харин принял его за "лоха" и попытался
"кинуть" с КАМАЗами. Договор был почти готов, оставалось подписать, однако
зам по тылу никак не хотел показывать технику, стоящую где-то на военных
складах. И тогда отец сам через какого-то прапорщика забрался в них и
увидел, что от грузовиков остались одни рамы и прицепы с бочками. Все
остальное давно было продано по частям. Но батя почему-то об этом
помалкивал и лишь часто повторял одну фразу:
- Нет, придется учить итальянский, а то говорят, там мафия не хуже нашей.
Мать поддакивала ему, тихо улыбалась Герману и держалась за его руку до
самой двери спецконтроля.
- Приеду - посылку соберу, - напомнила она. - Чтоб не тосковал по детству.
Они уже прошли проверку и влились в толпу пассажиров, когда отец вдруг
пошел назад, пробиваясь сквозь встречный поток, объяснил что-то милиционеру
и вырвался наружу.
- Я ведь совсем забыл тебе сказать! - зашептал торопливо. - Всю дорогу
помнил, а тут сбили с толку, так и вылетело... К нам тут одна журналистка
приходила, с матерью про тебя разговаривали.
- Это я знаю, батя...
- Зато главного не знаешь. Забралась на чердак, села в махолет и давай
крутить педали.
- И об этом знаю...
- А знаешь, что маховик-то до сих пор крутится? Э, то-то! - и светясь от
радости, вновь пошел буравить толпу.
В Пикулино Шабанов прилетел под вечер, когда бетон аэродрома хорошо
прогрелся солнцем и теперь щедро отдавал тепло. Над взлетными полосами
колыхалось легкое марево, по дорожкам, будто неоперившиеся птенцы,
разгуливала пара МИГарей: отрабатывалась рулежка - единственное упражнение,
на которое хватало топлива. Знакомо выли двигатели, светились огненные
сопла, пахло сгоревшим топливом, и ветер трепал, вздувал чехлы в длинном
ряду машин на стоянке, так напоминающих печальную и мудрую вереницу монахов
в длинных одеждах.
Этот мир никак не изменился, и в подчеркнутом его постоянстве угадывалась






 Орлов Алекс
Орлов Алекс Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий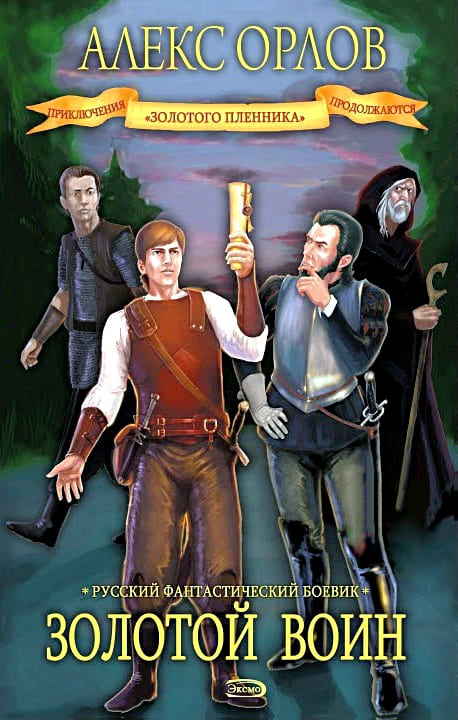 Орлов Алекс
Орлов Алекс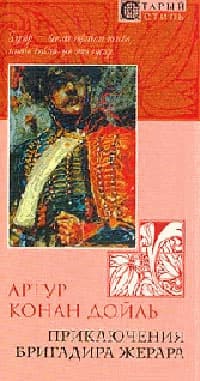 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур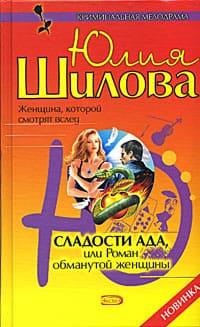 Шилова Юлия
Шилова Юлия