- Год назад хотели его, понимаешь, порезать. За что, не знаю. И не
спрашиваю. А он не говорит. Поздно вечером на набережной кинулись на него,
Хромого, сразу четверо. Подстерегли, не случайно как-нибудь. Не один день
стерегли. Это мне уже сам Хромой сказал. И еще сказал: "Старый дружок
счеты сводит". Ну, пустая набережная, понимаешь. Зима, вечер, темнота.
Смерть, одним словом, в лицо ему глядела. Кончать его хотели. Случайно
только я там оказался. Шел с работы, голова болит, ну, я круг сделал по
набережной. Меня тоже ножичком задели. Но жизнь ему я все-таки спас. Хотя
убежали в темноте, собаки. И он никого не отдал. Но добро помнит. Я,
например, таких уважаю, да?
- Помощником тебе стал?
- Не. Я его в свои дела не втягиваю, понимаешь. Парень сильно от жизни
натерпелся, я вижу. Ему покой нужен. Так, мимо иду, захожу. "Здравствуй,
Сережа, говорю. Как здоровье?" - "Порядок", - отвечает и молотком стучит.
"Жалобы, спрашиваю, есть?" - "Не кашляю больше", - говорит и улыбается.
Такая, знаешь, печальная у него улыбка.
- А связи опасные?
- Сам он сейчас не опасный, ручаюсь. Вот что главное, дорогой.
- А судимости у него за что?
- Драка и еще раз драка. Все двести шестая статья, первый раз - часть
первая, а потом и вторая. Но как и почему все было, не знаю, не спрашивал
и, понимаешь, не хочу спрашивать пока.
Разговаривая, мы незаметно выходим на набережную. Вот и море. От него
невозможно оторвать глаз. До этого оно один только раз серой полоской
мелькнуло далеко внизу, когда мы шли к рынку. А сейчас оно рядом, вот оно,
шумное, холодное, зимнее море, злое и косматое. И какое-то завораживающее
в своем вечном, неуемном, яростном движении. Глаз невозможно оторвать от
этих бесконечных волн, с пушечным грохотом мерно бьющих одна за другой в
высокую набережную. Сильный, тугой ветер наполняет воздух водяной пылью, и
лицо сразу становится мокрым, а на губах ощущаешь соль. Очень это здорово,
необычно и приятно. Набережная идет вдоль самого моря, пляжа внизу нет,
лишь узкая гряда зеленых мокрых камней, так что при несильном даже
волнении, как сейчас, над гранитным парапетом то и дело вздымаются
косматые гребни волн, а соленые брызги достигают окон домов.
Вдоль набережной тянутся невысокие белые здания. В первых этажах
расположены бесчисленные магазины, кафе, рестораны. То и дело в дверях их
видны таблички: "Закрыто". Эти рестораны и кафе откроются, видимо, только
летом. Прохожих здесь сейчас мало, идут они торопливо, нахохлившись,
морщась от брызг. Видно, только такому восторженному приезжему, как я, тут
может что-то нравиться, местные жители предпочитают сейчас вообще не
появляться. А вот летом набережная, наверное, самое оживленное место в
городе.
Беседуя, мы с Давудом идем не спеша. Я поглядываю на море.
Но вот, наконец, мы и у цели. Между двумя домами притулилась маленькая
сапожная мастерская. Это, видимо, просто заброшенная, глубокая подворотня,
приспособленная под мастерскую. Весь проем подворотни заколочен досками,
оставлена только узкая дверца и маленькое оконце, в котором выставлено
несколько мужских и женских туфель. Нет даже вывески, и так, видимо, все
ясно.
Давуд толкает дверку, и мы входим в тесное помещение. Невысокий дощатый
барьер делит его на две части. За барьером на низенькой скамеечке сидит
мастер, я не сразу могу его разглядеть в кажущейся после дневного света
полутьме, царящей здесь Вижу худощавую, согнутую фигуру и неестественно
отставленную в сторону ногу под черным сатиновым фартуком. Возле него на
низком, грубом ящике разложены инструменты, вокруг лежат старые ботинки,
женские туфли, сапоги, разбросаны обрезки кожи, стоят какие-то банки,
металлические коробочки. В нос бьет терпкий, острый запах кожи, лака,
клея, табака. С потолка прямо к глазам мастера спускается лампочка под
железным, в виде конуса, абажуром. Больше освещения тут нет, и мастерская
погружена в полумрак. Глаза не сразу привыкают к нему.
Когда мы входим и облокачиваемся на барьер, сапожник поднимает голову, и я
постепенно различаю узкое, небритое, бледное лицо, темноватые круги под
глазами, а сами глаза дерзкие и умные, но хитрости и тем более коварства я
в них не замечаю.
- Здравствуй, Сережа, - улыбаясь, говорит Давуд и протягивает через барьер
руку.
Хромой, прежде чем пожать ее, вытирает свою о фартук.
- Здравствуй, Давуд.
В резком его голосе чувствуется теплота.
- Жалобы есть? - спрашивает Давуд.
- Не кашляю, - в ответ сдержанно усмехается Хромой.
Это, видно, стало у них ритуалом при встрече.
- Слушай, Сережа, - уже серьезно говорит Давуд. - Я тебя, дорогой, никогда
ни о чем не просил. Так или не так, а?
- Так, - спокойно подтверждает Хромой.
- А теперь вот хочу попросить. Очень нужно, понимаешь.
- Проси, - тем же тоном произносит Хромой.
- Вот, гляди, - Давуд кладет руку мне на плечо. - Это мой друг. Приехал из
Москвы. Верь ему, как мне, понимаешь?
- Понимаю, - кивает Хромой, внимательно вглядываясь в меня.
- Так вот. Крепко ему помоги. Изо всех сил помоги. Он тебе сам все
расскажет, что надо. Зовут Виталий. Ну, знакомьтесь, пожалуйста.
Мы с Хромым пожимаем друг другу руки.
Давуд смотрит на часы и объявляет:
- Перерыв на обед, пожалуйста. Я ухожу, вы разговаривайте В семнадцать
часов я тебя жду, Виталий, а?
Я киваю, и Давуд, приветственно взмахнув рукой, уходит.
Хромой с усилием поднимается со своей скамеечки и, сильно припадая на одну
ногу, выходит из-за барьера.
- Серьезная беседа не терпит суеты, - говорит он. - Пусть будет второй
перерыв на обед. Все равно работы ни хрена нет.
Он запирает дверь на длинный засов, потом выставляет в оконце табличку с
надписью: "Перерыв на обед".
- Прошу в мои апартаменты, - шутливо произносит он.
Я захожу за барьер. Хромой толкает заднюю дверцу, и мы оказываемся в
темной и, как видно, просторной комнате. У двери Хромой щелкает
выключателем. Вспыхивает посреди комнаты лампочка под розовым прогорелым
абажуром. Я оглядываюсь Под лампочкой стоит старенький стол, покрытый
клеенкой, возле него несколько стульев, в стороне прислонился к стене
какой-то допотопный буфет со стеклянными дверцами, а в углу на четырех
чурбачках установлен матрац, застеленный старыми одеялами, с двумя
цветными подушками в изголовье. На стене возле буфета висят какие-то вещи.
- Здесь живешь? - оглядываясь, спрашиваю я.
- Когда домой идти неохота, - отвечает Хромой и неожиданно добавляет: -
Или когда идти опасаюсь.
- И так, значит, бывает?
- Бывает, - просто отвечает Хромой. - Все в жизни бывает. Да ты садись.
Мы подсаживаемся к столу.
- А здесь оставаться не страшновато? - снова спрашиваю я.
- Здесь-то? Не-а. И потом, здесь у меня еще два выхода предусмотрены, - он
кивает на дальний, плохо освещенный угол комнаты. - Один - во двор, а
второй - в подъезд соседнего дома, под лестницу, его там и не видно. Так
что уйти всегда можно.
- Если только в подъезде и во дворе не будут ждать.
- Ну, тут уж целый взвод нужен, - усмехается Хромой. - Столько никогда не
набирается. А потом, никто про эти выходы не знает. Тебе только и говорю,
раз ты Давуду друг.
- Что ж, на доверие положено отвечать доверием, - говорю я. - Курить можно
у тебя тут?
- Можно. Мы не в ресторане.
- А в ресторане разве нельзя? - удивленно спрашиваю я.
- Ага. Ни в одном. У нас город некурящих. Нигде курить нельзя. Ни в кино,
ни в театре, ни на пляже. В газете даже объявляли.
- Ай, ай, - я качаю головой. - Знал бы... впрочем, все равно приехал бы.
Серьезное дело привело. Вот слушай, - я закуриваю. - В Москве убит
человек. Из вашего города приехал. Фамилия Семанский, зовут Гвимар
Иванович. Был здесь директором магазина. Не знаешь такого?
- Не-а, - качает головой Хромой, боком пристраиваясь на стуле.
- Убили ваши, - продолжаю я. - Чума и Леха. Их знаешь?
- Этих знаю, - ровным голосом произносит Хромой и тоже тянется за
сигаретой, а мне показалось, он не курит.
- Так вот, Чума арестован, Леха погиб.
- Лучше бы наоборот.
- Это точно, - соглашаюсь я. - Но так уж судьба распорядилась. Только вот
что пока не ясно: за что убили-то. Они там, в Москве, крупную квартирную
кражу залепили. И вроде бы этот самый Семанский им подвод к ней дал. А
потом, я так полагаю, что-то они не поделили.
- А Чума хоть что говорит?
- Пока ничего не говорит. Он заговорит, если крепко его прижать. Но вот
Леха погиб. Теперь Чума постарается все на него свалить. И больше
прижимать его пока нечем. Вдвоем они это убийство совершили. Но, скорей
всего, приказал третий.
Хромой слушает напряженно, забывая даже про сигарету. Он весь как-то
съежился на стуле, подобрался, будто хочет прыгнуть куда-то, и только
отброшенная в сторону искалеченная нога, как подбитое крыло птицы,
разрушает это ощущение. Что-то особое, личное чувствую я в этом
напряженном его внимании.
- Ты такого Льва Игнатьевича, случайно, не знаешь? - спрашиваю я.
- Не-а. Это все не наша бражка. У нас другой народец, - усмехается Хромой,
затягиваясь наконец сигаретой. - Но... тут есть одно обстоятельство.






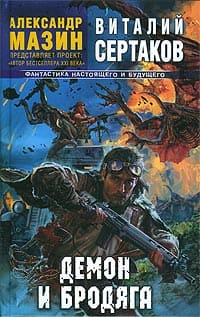 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий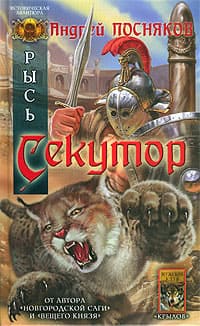 Посняков Андрей
Посняков Андрей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Круз Андрей
Круз Андрей Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Акунин Борис
Акунин Борис