друзей, за которых можно без колебаний поручиться.
Улица встречает меня ярким солнцем. Впервые за эти два дня оно вдруг
появилось на сером, тяжелом небе. Да и небо уже другое, оно нестерпимо
голубое, без единого облачка. А далеко внизу, за домами и деревьями, я
вижу полоску моря, синего-синего, неправдоподобно синего, словно кто-то
провел кистью по краешку неба, чтобы еще больше отделить его от земли.
Я задумчиво иду вниз по крутой улице. Все кругом меня стало вдруг весело и
ярко. Веселится грязная улица, ослепительно блестят стеклами окон и витрин
только что понурые, угрюмые дома. И люди вокруг словно повеселели и
приободрились, и больше, кажется, стало улыбок вокруг. И а самом деде,
шагается легче и хочется улыбаться, подставляя лицо совсем теплым
солнечным лучам.
Но если разобраться, то мне особенно нечему улыбаться. Никаких новых
связей Лехи я не установил. Кроме, правда, какого-то Славки, непутевого
Славки, который, однако, явно не имеет отношения к делу. Ну, еще я узнал,
что Семанский, оказывается, уволил Леху и тот, конечно, затаил на него
злость. Но за это не убивают. Кто же дал Лехе и Чуме приказ убить
Семанского? Ведь такой приказ кто-то дал. Кто? Неизвестно. И за что его
убили, тоже, между прочим, неизвестно. Не поделили вещи с кражи? Я все
больше начинаю сомневаться в этом. Вообще кража странным образом "не
вписывается" в дело, в отношения людей. И по-прежнему остается неизвестным
этот проклятый Лев Игнатьевич. Приказ-то, скорей всего, дал он. Кто же он
такой, откуда взялся? Все-таки, скорей всего, он москвич, поэтому здесь
никто его не знает. Никто? Ну, это мы еще поглядим. А что еще рассказали
мне эти женщины? Лида говорила про махинации Семанского. Какая-то пряжа
приходит из Москвы и куда-то уходит. Это уже по части Окаемова. И он этим
интересовался. Не очень-то, правда, умело и очень грубо. А вот по моей
частя ничего нового нет. И надежда пока только на Хромого. Важный, между
прочим, намек он бросил.
Однако я все кружусь что-то вокруг Лехи, которого уже нет. А вот о Чуме,
который есть и которого надо уличать, я пока ничего не узнал. Хотя - стоп!
О нем упомянул Хромой как о своем личном враге. И только. Мало. О Чуме нам
надо знать все, с ним еще предстоит немало повозиться, от него еще
предстоит добиться важных признаний. Через него лежит путь к раскрытию
убийства Семанского и квартирной краже тоже. Но к краже мы, кажется,
сможем скоро подойти и с другой стороны, через тех двоих, к убийству -
только через Чуму. И к таинственному Льву Игнатьевичу тоже. Странные
намеки того типа в кафе ушли куда-то, растворились, я не чувствую больше
того нерва, который, видимо, в какой-то момент задел. Наверное, все это
осталось в Москве, а тут... Да, тут главное сейчас - это связи Чумы,
живого Чумы, а не мертвого Лехи. К кому же это, интересно, они в няньки
нанялись, кого взялись охранять и беречь? Поглядим, что сегодня раздобудет
Хромой. А пока...
Я гляжу на часы. Можно было бы и пообедать. С Давудом мы увидимся только
вечером, у него своих дел по горло. Да и не нужен он мне пока. После обеда
я зайду к матери Чумы, там, кстати, и жена его, и дочка тоже.
Размышляя, я незаметно выхожу на какую-то пустынную площадь и оглядываюсь.
Не видно ни одного кафе, ресторанчика или даже просто столовой. Какие-то
захудалые магазинчики, ларьки. Надо идти дальше, в центр, на набережную, в
курортную зону города.
Я снова шагаю под гору, вниз, жмурясь от солнца, которое бьет мне в глаза.
И вскоре начинаю ощущать запах моря, явственный, особенный запах соли,
водорослей, еще чего-то. И уже через несколько минут я наконец выхожу на
набережную и замираю от восхищения. Шумят, искрятся и играют на солнце
зеленые волны, бегут по ним белоснежные пенные гребешки, бегут от
далекого-предалекого горизонта, где сходятся небо и море. Глаз невозможно
оторвать от этого простора и бесконечной игры света и волн.
Постояв у каменного парапета, я наконец отрываюсь от него и иду по залитой
солнцем набережной. Вскоре натыкаюсь на открытое кафе. Самое обычное
небольшое кафе - десятка два красных пластиковых столиков с дешевенькими
солонками и стаканчиками для салфеток и по четыре белых стула возле
каждого из них на тонких металлических ножках. За дальним столиком сидит
женщина с маленькой девочкой в расстегнутом пальтишке. Едят мороженое.
Видно, у девочки праздник. Интересно, есть ли здесь что-нибудь посолиднее,
чем мороженое?
На одном из столиков я замечаю мятый листок с напечатанным меню и
направляюсь к нему. Гардероб закрыт, и я бросаю свое пальто на соседний
стул. Затем я читаю меню. Да, кое-что есть для голодного человека,
например яичница и какие-то паровые биточки. Принимаю решение заказать и
то и другое. Начинается ожидание. К счастью, мне есть что обдумать. В том
доме, куда я сейчас направляюсь, говорят, идет настоящая война. Мать
Кольки-Чумы воюет со своей невесткой, которая хочет с Колькой разводиться.
Я невестку вполне понимаю, радости от такого мужа, как Чума, прямо скажем,
не много.
Черт возьми, пока тебя тут обслужат, в этом пустом кафе, пока принесут эти
несчастные биточки, можно обдумать не только ситуацию в семье Кольки-Чумы.
Я вспоминаю, как сострил недавно Петя Шухмин, когда его кто-то спросил,
есть ли у него машина. Петя сказал: "Геологи еще ищут тот металл, из
которого она будет сделана". Вот так приблизительно обстоит дело и с этими
биточками. Говядина для них еще пасется где-то на лугу.
Впрочем, не проходит и часу, как я уже полусытый иду снова по набережной и
вскоре, не дойдя самую малость до мастерской хромого Сергея, сворачиваю на
одну из улиц. Дом, где живет семья Чумы, где-то тут, недалеко, на
территории большого санатория. Жена Кольки работает там поваром.
Вот, наконец, начинается и бесконечная решетчатая ограда санатория. Она
сплошь увита диким виноградом, так что даже сейчас, сквозь паутину голых
веток, ничего не видно. Около больших красивых ворот установлена будка для
сторожа. Когда я подхожу, появляется и он сам, не старый, потрепанный
человек в пальто и форменной фуражке с желтым околышком, лицо отекшее
невыспавшееся, глаза опухшие и сердитые.
Я прохожу мимо него, небрежно бросив через плечо:
- Инспекция.
Какая именно, я, пожалуй, затруднился бы сказать, но чутье подсказывает
мне, что это наиболее сейчас простой и безболезненный способ пройти на
территорию. Название нашей фирмы производит порой слишком уж сильное
впечатление и служит поводом для всяких домыслов. Расчет мой верен.
Сторож, очумело глядя на меня, молча берет под козырек.
И вот я уже иду по длинной, обсаженной кипарисами аллее, огибаю огромное
светлое здание санатория, потом еще одно здание, поменьше, с окнами чуть
не во весь этаж, видимо медицинский или какой-нибудь процедурный корпус.
Возле него я встречаю пожилую женщину в белом халате и, следуя ее
указаниям, иду дальше. Наконец где-то в самой глубине красивого парка,
даже сейчас красивого, в это время года, я обнаруживаю длинное двухэтажное
светлое здание, обхожу его и вижу перед собой знакомую ограду, а за ней
довольно оживленную улицу. Нужный мне дом как раз и выходит на нее.
Я отыскиваю четвертый подъезд, поднимаюсь на второй этаж и звоню в
квартиру тридцать один. Звоню раз, другой, пока, наконец, дверь не
открывается, и я вижу перед собой высокую, худую старуху в очках, на
острые плечи накинут темный платок. Взгляд из-за очков колючий и
настороженный. М-да. Беседовать подряд с двумя старушками - это, пожалуй,
многовато. Но ничего не поделаешь, служба...
- Здравствуйте, Ольга Петровна, - говорю я.
- Ну здравствуй, коли пришел, - отвечает старуха, подозрительно оглядывая
меня и вовсе, кажется, не собираясь пригласить войти.
Наконец старуха спрашивает:
- Кто же такой будешь?
- Насчет сына вашего пришел поговорить. Из милиции я.
- А меня не касается, чего там с ним, - уже враждебно отвечает старуха. -
Это пущай он сам за себя отвечает.
- Он сам и ответит. Но только узнать нам его надо получше. Вот и решили с
вами побеседовать. Разрешите?
- Ничего такого о нем не знаю, - сердито отвечает Ольга Петровна,
по-прежнему загораживая дверь. - И говорить со мной не о чем. Больная я.
- Может, он вообще вам не сын? - усмехнувшись, спрашиваю я. - И у нас
ошибочка вышла, не туда я пришел?
- Ну сын. Не откажешься. Это вон жена может отказаться.
- Не зря, наверное, отказывается.
- Ну, там, зря или не зря, это уж наше дело.
- Совершенно верно, - соглашаюсь я. - Это дело семейное. Но все-таки
разобраться нам с вашим Николаем надо по справедливости.
- Жди от вас справедливости, как же.
- Так я вижу, вы и сами ее не хотите.
- Мое дело, чего я хочу.
- Нет, - резко отвечаю я. - Не ваше... Колькино это дело. Вы для него
сейчас хуже чужой, смотрю, а я вроде лучше матери получаюсь. Вас вот
уговариваю.
- Ишь ты, - насмешливо ухмыляется старуха, - какой выискался. "Лучше
матери!" И чего тебе от меня надо, репей?
- Зайти к вам и поговорить.
- Вот ведь пристал, - неприязненно говорит старуха. - Ну, заходи, коли так.
Она отодвигается, и я переступаю порог. В маленькой передней вешаю пальто
и иду вслед за старухой в комнату. Она обставлена куда лучше той, в
которой я был утром. Здесь разместился полированный новый гарнитур,
венгерский, наверное, или румынский, на полках длинного серванта, за
стеклом, стоят хрустальные вазы, красивый чайный сервиз, еще какая-то
посуда. На круглом столе с пестрой салфеткой посередине стоит еще одна
ваза, низкая и широкая. К столу аккуратно придвинуты тяжелые, гнутые
стулья, у стены огромный диван. Под потолком, над столом, висит большая
чешская хрустальная люстра. Да, полный достаток в этом доме, словно и не



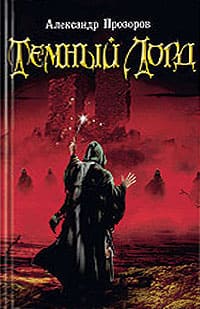
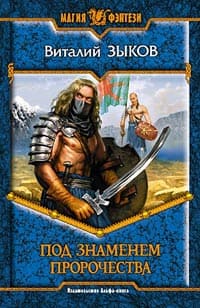

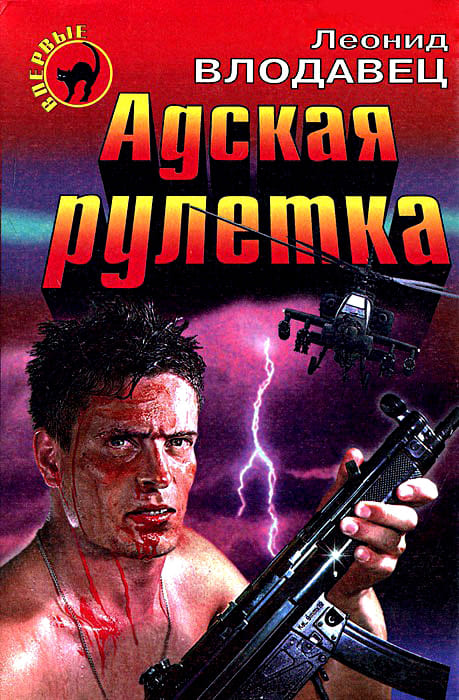 Влодавец Леонид
Влодавец Леонид Куликов Роман
Куликов Роман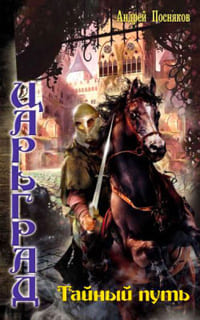 Посняков Андрей
Посняков Андрей Дальский Алекс
Дальский Алекс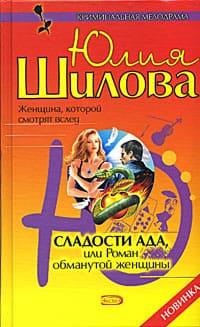 Шилова Юлия
Шилова Юлия Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк