ждать что угодно, и толкнуть его можно тоже на что угодно, если это
покажется ему выгодным. Ну, а если проанализировать ситуацию, в которой
сейчас оказался Федька Слон, то нетрудно определить, что именно может
показаться ему выгодным.
Преступник, загнанный в угол, в поисках выхода, естественно, идет на все.
Способы, к которым он при этом прибегает, выявляют его характер. Но если
известен характер, то можно предвидеть и способ спасения, который этот
человек выберет. Один - сдается и все чистосердечно рассказывает. Второй -
стремится все свалить на других. Третий же - пытается за счет других
откупиться, готов выдать, "продать", потопить всех вокруг, но
выкарабкаться самому. В этом случае он выдает себя за горячего нашего
помощника и готов поделиться всеми известными ему тайнами. Этот последний
случай порой выглядит весьма соблазнительно. Посудите сами. Выгодней,
кажется, оказать снисхождение, поблажку одному, чтобы поймать пять других,
не менее опасных; не раскрыть до конца одного преступления, зато быстро и
эффективно раскрыть пять других. Ну как тут, казалось бы, не соблазниться,
не поддаться такому элементарному, очевидному расчету?
Однако - и это Кузьмич нам втолковывал не раз - в последнем случае
неисчислимы нравственные потери. Мало того, что "спасенный" убедится, что
за счет предательства, доноса, по довольно-таки циничному и не очень
совестливому "раскладу" власть может "списать" твое собственное
преступление. Так можно ли уважать такую власть? Может ли она иметь
авторитет? Может ли требовать нравственных поступков от людей, если она
сама безнравственна? А ведь от "спасенного" многие узнают об этой его
сделке с властью. Далеко пойдут круги от каждого такого случая.
Но мало этого, утверждает Кузьмич. Такая "выгодная" сделка, а за ней и
другая и третья в конце концов расшатают и сметут нравственные принципы у
самой власти, у людей, ею уполномоченных вести борьбу с преступностью. И
это во сто крат опаснее всего остального. Поэтому никогда ни один из нас
не должен даже помыслить о таком пути. Узнай Кузьмич, что нечто подобное
пришло кому-нибудь из нас в голову, о последствиях этого страшно даже
подумать.
Что же, спросят меня, ваш Кузьмич готов во имя этих высоких и теоретически
бесспорных принципов пожертвовать земными тревогами и заботами, покоем и
безопасностью людей? И считает, что лучше "чистыми руками" раскрыть всего
одно преступление, чем, "испачкавшись", раскрыть все же пять их?
Нет, конечно. Просто есть другие пути. Об этом тоже не устает твердить нам
Кузьмич. И не только твердить, но и на практике демонстрировать.
Вор, бандит, хулиган или насильник всегда где-то внутри, а часто и на
поверхности эгоист и трус, жалкий трус. И вечный страх сидит у него где-то
внутри, временами подавляемый вспышками других чувств. Ибо хотя и
подсознательно, но он все же чувствует, что, решившись на преступление, он
замахивается не на одного человека, свою жертву, которого он, может быть,
и не боится, а на нечто неизмеримо большее - на государство, на общество,
где он живет, на все законы его, замахивается на силу, которая в любой
момент может обрушиться на него. Отсюда и вечный страх.
Но, кроме того, преступник, как правило, человек ограниченный,
примитивный, у которого инстинкт, низменный инстинкт, всегда выше,
активнее совести, чести, достоинства и других нравственных категорий. Но
где-то, иной раз в самой зачаточной форме, эти категории даже у такого
человека все же заложены, чуть-чуть да проклевываются в каком-то, порой
лишь в одном, самом болезненном и потаенном закоулке души.
Так вот, первый путь, на который нам Кузьмич всегда указывает, - это
найти, нащупать впотьмах эту болевую точку в душе. Именно в случае такой
удачи возникают поразительные перемены в человеке. И мы тогда говорим:
переродился.
Но это самый тонкий и трудный путь, хотя и самый лучший и полезный, как
для человека, преступившего закон, так и для общества в целом.
Есть пути проще. Можно, например, использовать выявленные в преступнике
черты характера, чтобы создать у него некоторые новые для него
представления об окружающей жизни, чтобы заманить его в логические ловушки
и тупики. Пользуясь его же рассуждениями, наконец, можно убедить его, тоже
вполне логически, в бесполезности, а то и вредности для него самого, для
него лично, занятой им позиции.
К этому обычно можно присоединить и простое объяснение, растолкование
элементарных, и не только элементарных, норм уголовного и
уголовно-процессуального кодексов и наших законов, о которых эти люди, как
правило, ничего не знают или знают неверно, недостаточно, а то и в
сознательно кем-то искаженном виде. Между тем многие из этих норм,
доходчиво и четко объясненные, сами толкают, поощряют человека,
совершившего преступление, к ясно и твердо осознанному поступку -
признанию своей вины как наилучшему выходу.
Эти последние пути требуют, по мнению Кузьмича, меньше труда и таланта, но
они вполне нравственны, законны и безусловно достойны.
Обсуждая сейчас случай с Федькой Слоном, мы исследуем все пути, пробуем на
прочность и "примеряем" к нему, к его характеру, к его интеллекту все
доводы и известные нам факты, пытаемся даже заглянуть в Федькину душу и
нащупать там хоть одну болевую точку.
- Эге, - говорит Кузьмич, взглянув на часы, - поздно то как. Гляди-ко, и
день прошел.
- Но я все-таки допрошу его сейчас, а? - говорю я. - Пока он еще
взбудоражен, ошарашен арестом, пока не знает, что подумать. Нельзя такой
момент упускать.
- Хм... Может, дать ему ночку помучиться в неизвестности. Завтра ему еще
тяжелей будет. Да и Виктор Анатольевич подключится.
Но если Кузьмич отлично знает каждого из нас, то и мы научились неплохо
разбираться в нем самом. И сейчас я вижу, что дело вовсе не в пользе этой
"ночки", а в том, что Кузьмич сомневается во мне: смогу ли я как надо
провести этот трудный допрос? Но я уже охвачен азартом и веду спор на
выбранном самим Кузьмичом плацдарме.
- Он ночку не помучается, он успокоится, - не сдаюсь я. - Он линию
поведения выберет и замкнется. Нельзя откладывать допрос. Завтра с Федькой
труднее будет. Вы же это и сами прекрасно понимаете. Разрешите, Федор
Кузьмич. Я готов к допросу. Я его не провалю. Вот увидите.
И сам холодею от добровольно взваливаемой на себя ответственности.
Кузьмич снова смотрит на часы, словно советуясь с ними, и, вздохнув, машет
рукой:
- Ладно. Давай.
И берется за телефон.
А я иду к себе. Я сгораю от нетерпения. Одновременно, конечно, и всяческие
опасения осаждают меня. Ведь может же так случиться, что я не справлюсь,
что не удастся план, который сложился у меня в голове. Нет, я не помышляю,
конечно, о высших достижениях, не мечтаю о том, что Федька за два часа
вдруг переродится или в нем хотя бы на минуту заговорит совесть. Но кое на
что я все-таки рассчитываю в этот вечер.
Раздается негромкий стук в дверь. Я откликаюсь, и милиционер вводит
Федьку. Это здоровенный, неуклюжий парняга в грязном, местами порванном
ватнике, сапогах и мятой кепке. Круглое лицо его высечено грубо и коряво,
расплющенный нос, толстые, чуть не до ушей губы, одутловатые, заросшие
золотистой щетиной щеки, кожа в угрях и мелких ссадинах. Громадные ручищи,
как старые лопаты в засохшей глине, кривые и грязные до черноты. Где он
только не валялся эти дни, где только не ночевал!
Я указываю Федьке на стул, и тот жалобно скрипит под тяжестью этого
слоновьего тела.
- Кепочку снимите, - вежливо говорю я.
И Федька, сопя, молча сгребает кепку с жирных, свалявшихся волос.
- Мухин Федор? - спрашиваю я.
- Он самый, - хрипит Федька простуженно. - Чего хватаете-то?
- А чего вы бежите? Вас же только спросить хотели.
- Ха! "Спросить"! А машина тогда зачем, а? А руки зачем за спину? Нашли
чурку, да?
Он поводит могучими плечами и морщится от боли.
- Машина была не для вас. А вот узнать у вас кое-что нам действительно
надо.
Я чувствую, как миролюбивый мой тон и несколько неожиданный поворот
разговора, в котором я не собираюсь, кажется, его в чем-то уличать и
разоблачать, а лишь хочу всего-навсего что-то узнать, несколько
озадачивает и настораживает Федьку.
- Чего узнать-то надо? - грубовато, но беззлобно спрашивает он.
- Да вот хотел об этом узнать у Ивана, дружка вашего, - отвечаю я, - так
он неточно все помнит. Говорит, у Федьки спросите, может, он запомнил.
- Иван скажет... - сердито ворчит Федька на всякий случай, хотя, о чем
пойдет речь, понять он никак не может.
Да и трудновато в самом деле это сообразить. Ведь у него в голове гвоздем
сидит только одно: убийство. Да еще работника милиции. Эта мысль все
другое от него отгораживает, все другое ему уже сущей ерундой кажется. Это
убийство наполняет его душу и страхом и паникой. А если на совести у него
два убийства? Если это он с дружком ограбили и столкнули Веру в котлован,
на кирпичи, на бетон? Впрочем, второе убийство сомнительно. Так и Кузьмич
полагает, и Виктор Анатольевич тоже. Не стал бы в этом случае Зинченко так
спокойно вспоминать тот вечер, бутылку водки, которую они с Федькой
распили, и стройплощадку на пустынной улице, а тем более единственного
свидетеля - паренька-рабочего возле вагончика у ворот стройки. Да, не стал
бы все это вспоминать Зинченко, если бы участвовал в убийстве Веры. Мой
расчет и мой план сейчас именно на этом и строятся, в том числе на этом,
так будет точнее.
- Иван сказал, - говорю я, - что помнил, то и сказал. Теперь ваш черед
вспоминать.
Моя подчеркнутая вежливость, необычное обращение к нему на "вы" стесняют
Федьку, жмут, как непривычные парадные ботинки, и тоже лишают возможности






 Лукин Евгений
Лукин Евгений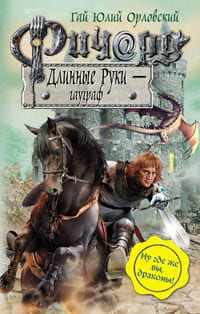 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий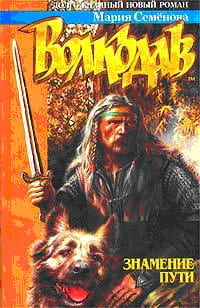 Семенова Мария
Семенова Мария Шилова Юлия
Шилова Юлия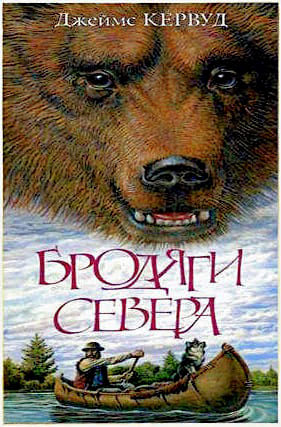 Кервуд Оливер Дж.
Кервуд Оливер Дж.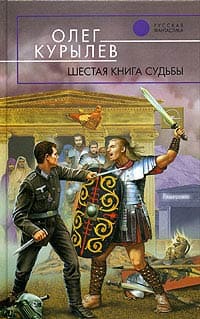 Курылев Олег
Курылев Олег