чему учат эти писаки, - он потряс пачкой листовок, которую все еще держал
в руках, - чего хотят?
времени нет. Дай сюда.
оглянулся и швырнул обрывки в кучу окурков и мусора, заметенную кем-то в
угол под лестничное окно.
честно заработать хочешь, приходи - научу. - И побежал вниз не
оглядываясь.
встрече на лестнице. Не пошел я и к Егору: постеснялся, да и старая
неприязнь все еще мешала. Думалось: не пойду - не увижу.
ворот - обиталище злейших и никогда не стихавших сквозняков. Он был в
солдатских ботинках и обмотках, а старенькое пальто его было перетянуто
широким кожаным ремнем с блестящей новенькой кобурой на боку, из которой
торчала ручка нагана.
сребреники?
сегодня и, когда встречу, не знаю. Еду в действующую армию делегатом. - Он
задумался. - Может, письмо передашь?
пристроившись у стенки, быстро исписал два листика, вырвал их и протянул
мне:
можешь, только ничего никому. Ясно?
поморщился от боли.
поездки в Охотный ряд и от которого остался пожелтевший, протертый на
сгибах номер "Раннего утра".
уэллсовской Утопии. Подъехав на автобусе к Дому союзов, мы тут же и вышли
против того же Колонного зала и устья Большой Дмитровки. В первый момент я
даже не обратил внимания на то, что вместо входа в метро напротив висела
огромная вывеска - анонс театра Незлобина, извещавший о предстоящей
премьере "Орленка".
громадины, окаймляющие ныне бывший проезд Охотного ряда, - гостиница
"Москва" и Дом Совета Министров. Вместо них лепились друг к другу
несколько грязных, не то бурых, но то рыжих двухэтажных домишек,
подпиравших с боков древнюю церковку, задорно выползшую на и без того
узенький-преузенький тротуар. Да и самый проезд стал словно уже и грязнее.
Асфальт мостовой превратился в неровный стесанный камень, засоренный
грязью и мусором. Я различил конский навоз, битую щепу, куски картона и
досок, раздавленную зелень и даже чью-то соломенную шляпу, вернее, ее
разорванные остатки, которые колеса и ветер относили вправо, к потоку с
Тверской.
на углу людной московской улицы и прислушайтесь к тому, что происходит
вокруг. Вы услышите негромкое жужжание автомобилей, монотонный рокот
автобусных моторов, громыхание дизелей на тяжелых грузовиках, свистящее
шуршание шин. И за всем этим, как вода, напитывающая землю, - человеческий
гомон, ровный, привычный гул людского уличного потока, не умолкающий с
утра до ночи. Сейчас это обилие шумов стало иным, дробилось мельче, но
громче в хаосе режущих ухо звуков. Ржали лошади, стучали подковы о камень,
с лязгом высекая искры, скрипели колеса, визжали несмазанные рессоры телег
и пролеток, гремели бочки на подводах, свистели городовые. Да и
разбавляющий этот гул нестройный человеческий гомон был сейчас громче,
зычнее, раскатистее, словно шумел рядом с нами не обычный уличный поток, а
более обильное, тесное и крикливое человеческое скопление. Так оно и было:
в двух-трех шагах от нас начинались палатки Охотного ряда.
любопытством озирался по сторонам, пробираясь в то воскресное утро сквозь
рыночную толпу. Меня все занимало - и мертвое изобилие дичи, словно
копирующее полотна Снайдерса, и багровые туши быков, подвешенные на крюках
в полутьме мясных лавок, и гигантские ножи мясников, похожие на мечи
шекспировских феодалов, и хозяйские бороды, растущие прямо от глаз и ушей,
и вся окружающая суетня, и лица, и запахи, и божба, и ругань.
огорчения, пожалуй. Яркая картинка прошлого, запечатленная в памяти, вдруг
пожухла и потускнела. Все оказалось старее, мельче, приземистее, грязнее.
Я отчетливо видел затоптанный и замусоренный тротуар под ногами, лохматую
рыжую крысу, лениво скользнувшую из палатки в подвал, растертые сапогами
по камню капустные листья, толстых, как пчелы, мух, жужжавших над синими
тушами, ржавые пятна высохшей крови на феодальных ножах, темные щели
подвалов, откуда за десять шагов несло тухлой рыбой и прелой зеленью. Я
невольно поймал себя на том, что рассуждаю в манере Володькиного
сочинения, которое осудил, пожалуй, необдуманно и поспешно: мальчишка
видел правильно. Я искоса взглянул на него. Жадный интерес на его лице
чередовался с брезгливой гримасой, иногда он откровенно морщил нос,
отворачиваясь от особенно пахучего изобилия.
больше. Я таким себе его и представлял. Только пахнет хуже.
мясников, братьев Власенковых, двух русых, розовых молодцов, похожих на
княжичей с картинок Соломко.
похожи?"
сравнение, и мне стало неловко. Володька почему-то усмехнулся.
как и в то воскресенье, извозчик. Может быть, тот же самый, не помню. Он
даже не взглянул на нас с Володькой, когда мы забрались в его пролетку,
ткнул кнутовищем в зад рыжей лошади, и мы медленной извозчичьей рысью
начали подыматься вверх по Тверской.
улицей. Множество вывесок, забравшихся здесь на первый и на второй этажи,
только сбивало и путало смутные видения, возникавшие в памяти. Они таяли,
не успевая о чем-то напомнить. Лишь изредка что-то показывалось яснее и
задерживалось дольше - парад "Золотой библиотеки" на витрине у Вольфа,
зеленый стеклянный шар в аптечном окне, студенческие тужурки у Мандля,
когда-то покорявшие сердце гимназиста-семиклассника.
в Охотничьем клубе, и они тускло и стыдливо подчеркивали при солнечном
свете название картины - "Морское чудо" с участием Женин Портен. Володька
только усмехнулся и ни о чем не спросил. А если бы даже и спросил, я бы не
стал рассказывать. Ведь он уже умел отличать и простоту итальянского
неореализма, и тонкость польского кинорассказа от венской опереточной
чепухи, тяжеловесной боннской мелодрамы. Что мог я рассказать о мелодраме
еще более далекой и бедной, о робких сентиментальных тенях, воскресавших
чужую, давно истлевшую жизнь, о бегающих человечках и вытаращенных глазах?
он неуважительно усмехнулся, кивнув на оранжевое здание с широким
балконом.




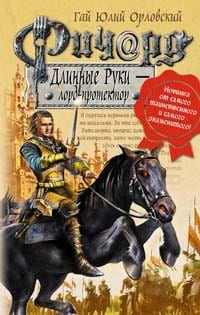

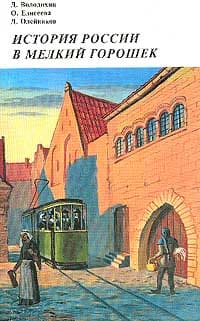 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Свержин Владимир
Свержин Владимир Корнев Павел
Корнев Павел Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман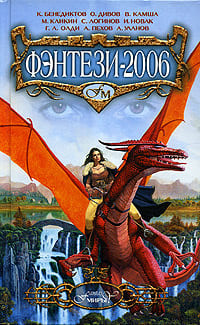 Пехов Алексей
Пехов Алексей