прикосновения мысли и тончайших движений чувств могут быть так
замечательны. Я видел Лину такой, какой она была прошлой весной. Она вышла
из парикмахерской: короткая стрижка, волосы чуть взлохмачены, чуть
подкрашены отдельными светлыми прядями, и глаза в этом обрамлении
почему-то изменили оттенок - не темно-синие, а голубые, с черными мишенями
зрачков, и улыбка тоже изменилась (из-за прически?), стала виноватой, я
только потом понял почему: Лина не знала, понравится ли мне, я всегда
говорил (всегда? четыре года!), что люблю длинные волосы, в которых можно
утонуть... Я утонул и в этих обрубленных, подправленных ровной скобкой на
затылке, волосах, и утонул сейчас, увидев их на фоне вечернего (все еще
вечернего!) неба. Я ворошил их, и они волновались, будто от ветра (ветер
фантазии!), и Лина терлась щекой о мою ладонь, а потом мы были вместе
(сейчас? где? как? на развалинах Мира?), и было не просто хорошо, никогда
прежде так не было, потому что прежде и мы не могли так чувствовать -
предвидеть даже не желания друг друга, но оттенки, предвестники желаний.
Счастье? Это было бы счастьем, если бы во всем, что происходило, не
присутствовало ощущение вины перед Миром, который уходил не по моей
(нашей) вине, но по нашей (моей) воле. Пир во время чумы? Счастье на
развалинах...
нарождался, и на календарях стояли разные даты, и все же это был вечер
бесконечного дня.
точным. Не младенцы, не дети (они ушли из-за грехов их будущих), не
старики (тех уволокли грехи прошлые), но люди молодые, полные сил -
мужчины и женщины, не знавшие ничего друг о друге, каждый из них остался
перед будущим - один. И каждый был безгрешен.
могло быть на Земле. Значит, это не люди. Тогда - кто?
коснулась, пройдя через душу лишь верой в Аллаха. Мгновенно обозрев его
прошлое, я увидел в нем тяжелое детство бедуина, и нежность, и любовь к
близким, и невозможность жить как все - и уход в безлюдные пески, чтобы
там, возможно, замолить грехи всех людей.
(личности?), не сделавшие в жизни ровно ничего плохого, но и хорошего не
сделавшие тоже, обратившие в христианство лишь три заблудшие души, но и
грешить не способные.
уходили. Я мог бы остановиться сейчас (да! - сразу сказала Лина. - Вот
шанс!), но род людей, пошедший от этих двенадцати...
знал уже, что эти двенадцать (в другой, конечно, телесной оболочке, но
всегда двенадцать) были извечно, и создал их я сам - семь мужчин и пять
женщин - так сказать, для чистоты эксперимента...
работал быстрее, чем прежде: не миллиарды, а только сотни тысяч лет
понадобились мне, чтобы создать человека. Сила убывала, и я старался не
растрачивать зря ее последние крохи.
тяжелые надбровные дуги придавали лицу на редкость тупое выражение. Я еще
умел заглядывать в будущее (недалеко, впрочем, на две-три тысячи лет) и
видел, как это дикое существо станет меняться само и менять мир. Все было
правильно, и я был доволен. Потом - много тысячелетий спустя - Моше
Рабейну так и не поймет всей сложности процесса рождения человечества, и в
книгах Торы, упростив до примитива мой и без того упрощенный рассказ,
напишет: "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою живою... И создал Господь Бог из
ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку..." Раз, два -
готово. А я лепил ген, смотрел на плоды своего труда и видел - чего-то
недостает. Собственно, я знал - чего. Знал, что с помощью дубины, уже
придуманной им, человек будет не только сбивать плоды с деревьев, но и
размозжит голову соседу, не поделив с ним добычу.
даже этого, отобрал двенадцать человек (человек? почти...) из разных
племен - семь мужчин и пять женщин - с самым, как я оценил, здоровым
генетическим аппаратом и сделал (много позднее люди назвали этот процесс
мутациями) небольшую перестановку генов. Я не стал делать этого для всего
рода людского, потому что не мог уже оценить широкомасштабных следствий на
много поколений в будущее, но контрольную группу создал. И в каждом
поколении отныне являлись на свет двенадцать праведников, не способных
грешить.
обидел, хотя многие обижали его, говорил о лучшей жизни, но не настаивал
на своих взглядах, он был человеком мягким и достойным, и многие считали
его чокнутым, хотя был он вполне нормален.
и пунктуален. Он не женился, жил, ничего не боясь, ни перед кем не
заискивая, выполняя все предписания католической веры и исправно посещая
церковь.
получал ответа, было ему тоскливо и горько, потому что он знал о приходе
Мессии и Дне страшного суда, и видел результат - никто (никто!) не
выдержал испытания, кроме него, Роджера Картмилла.
как отправиться в офис - подсчитывать и подшивать бумаги. Скамейка была
пуста, сквер был пуст, только у мусорных баков оживленно суетились жирные
крысы - настало их время. Ему и в голову не пришло возмутиться или хотя бы
испугаться при виде этих тварей, к концу Дня восьмого ставших хозяевами
крупных городов. Он прошел мимо скамейки и мимо крыс к станции подземки,
она была освещена, и турникеты работали, и жетонные автоматы тоже;
откуда-то изнутри, из-под земли, слышался гул, будто там дышал вулкан.
Картмилл стоял и слушал, и знал, что не войдет, потому что было это
бессмысленно, а он всегда делал только то, что имело смысл. Тот смысл,
который вкладывал в вещи Творец.
мой грех перед тобой в этом. Я не стремился жить. За это наказан. Почему -
так? Почему я должен быть один в мире, предназначенном для всех? Я не могу
прожить миллион жизней, для которых существует этот город, я не могу есть
за всех, работать за всех, отдыхать за всех, я не могу обмануть - не
только за всех, но и за себя одного, никогда не мог, и я знаю теперь, что
это грех, потому что, если бы я был таким, как все, я и ушел бы со всеми,
а теперь ты наказал меня, оставив сторожить то, что мне не принадлежит. И
еще я грешен в том, что не могу совершить греха - броситься с платформы на
рельсы; если нет поезда, то можно хотя бы сломать шею.
отражение собственной мысли. Картмилл шел, сосредоточенно прислушиваясь,
бросил в прорезь турникета жетон, спустился на платформу, где было темно и
плохо пахло (несколько мертвецов лежали вповалку, час назад здесь крепко
дрались ножами), а из жерла туннеля торчал, будто затычка в горлышке
бутылки, последний вагон поезда, столкнувшегося с шедшим впереди составом.
Поезд был пуст.
Картмилл отпрянул. Нет, - сказал он, - это грех.
чистым перед Богом. Но кому ты это расскажешь, кого убедишь? Невозможно
быть праведником, если нет грешников.
кто имел смелость выбирать. Именно потому цивилизация существовала и стала
такой, какой не должна была стать. Мне не нужны апостолы, потому что они
хуже грешников. Они бесплодны. Дерево может приносить красные сладкие
яблоки или кислую ядовитую волчью ягоду, но плодоносить оно должно.
согласился. Он впервые задумался о Смысле и понял, что Смысла нет.
планете, а на других не было и прежде. Но мог ли я сказать: и вот хорошо
весьма?


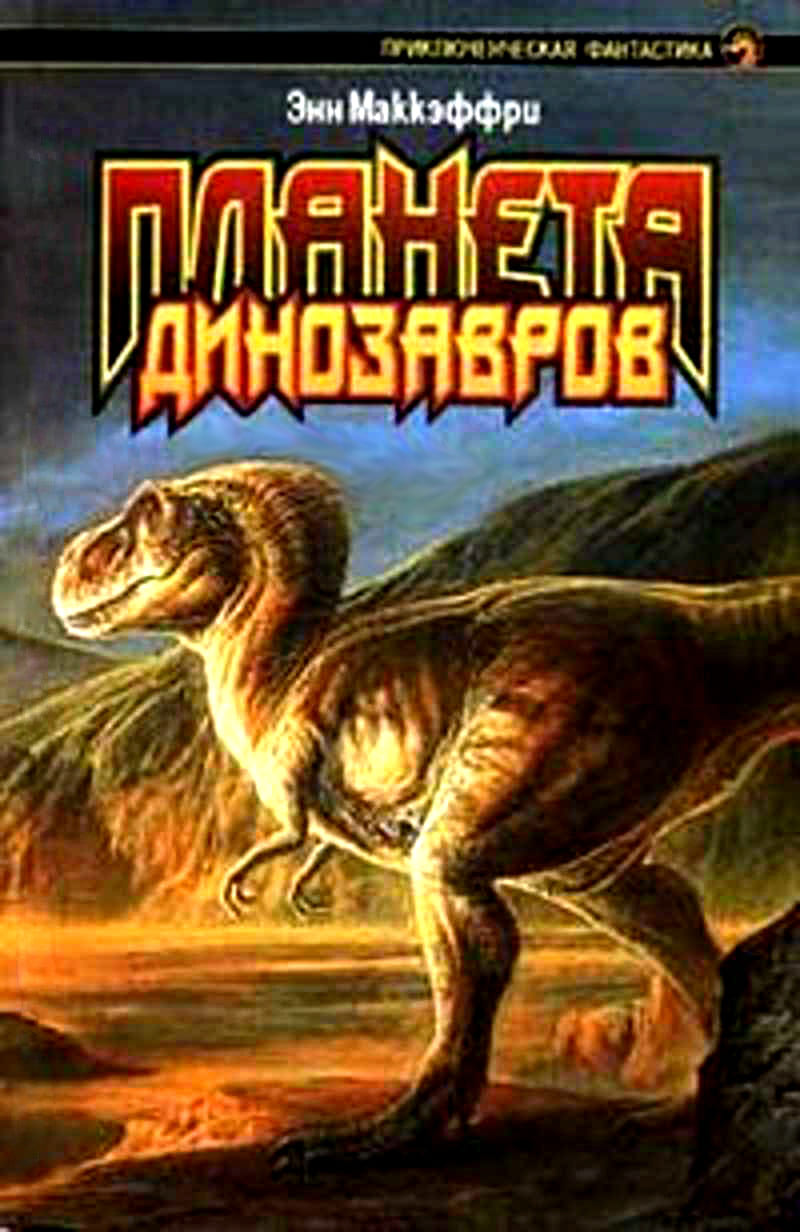

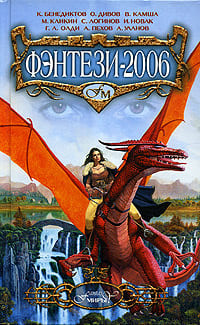
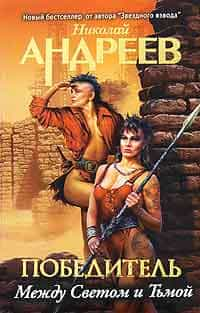
 Корнев Павел
Корнев Павел Березин Федор
Березин Федор Дальский Алекс
Дальский Алекс Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Посняков Андрей
Посняков Андрей Посняков Андрей
Посняков Андрей