Лев Вершинин
Войти в Реку
мелькнула на миг, и сгинула, и понеслись другие, такие же мелкие, смешные,
незапоминаемые - закрутились, замельтешили и вплелись в нескончаемый
разноцветный круговорот предобморочных ощущений.
закупоренной. И хотя люди все время входят и выходят, воздух все такой же
затхлый, безнадежно задымленный и настолько густой, что в вышине, под
потолком, вяло покачиваясь и не думая падать, висит меч.
тебе и отменять. Да и не добраться никак до потолка. Да и, опять же, на
фига? В конце концов, он же еще ни разу не падал. В общем, черт с ним...
поудобнее, зеленоватый гаденыш. В углу, который подальше от двери, сладкий
дымок, звон, хруст ампул... _кайф_. За столом - игра, не большая и не
маленькая. Повседневная. И партнеры знакомые, не передернуть, не
подтасовать. И азарт привычный, вполнакала, и выигрыши средненькие, и
победитель, как водится, получает все. Или - ничего, тут уж как повезет.
происходящее выглядит наверняка забавно, а то и поучительно. Так это же -
с высоты. А так - душно, тошно, скучно - и завтра игра, и послезавтра
игра. А не по нраву - уходи, держать не станут, все равно до самого конца
никому не досидеть. Но не мешай, не то - проводят под белы руки...
никакого. Плевать все хотели на правила приличия. Да и на тебя. И на меня.
Многие даже и не фигурально, а в полную меру сил своих...
придешь ли еще?.. Нет, не стоит. Не поймут. Или не так поймут. Тем паче
что прийти уж точно не придется.
Да и дверью этой пока еще мало кому хлопнуть удалось. Никому в общем-то.
Последние скользящие прикосновения, ноябрьский холод ручки, неслышный,
пронзающий визг петель. Луч света врывается из коридора, но сникает вмиг,
окруженный и подавленный. Дверь плавно возвращается, мягко вырвавшись из
рук...
докликаться, да и надо ли? Не лучше ли идти - Бог весть куда - без всякой
воли, одному, просто так; назад дороги нет, дверь захлопнута надежно...
идешь, идешь, идешь - и тоска понемногу покидает тебя, становится
спокойно, и нет надежд, и нет разочарований, и ты почти совсем счастлив на
этой ночной равнине. Или даже без почти.
и вот ты замечаешь впереди полоску света, стремишься к ней, и - врываешься
наконец под сумеречный свод, и все хочешь разобраться: а тут-то, тут,
может быть - все не так, как там, где был раньше?
тушуешься и уходишь на задний план, измазанный липкими ленивыми взглядами
игроков...
пытаешься бежать, о чем стараешься не думать - Река...
виноват был исключительно Петер; они всей лабораторией отмечали завершение
очередной серии экспериментов, и в гости он ввалился уже вполне на бровях,
да еще и с двумя сильно початыми бутылями неплохого коньяка,
сосредоточенный и неотвратимо намеренный не ограничиться поглощенным. И
Томас, как всегда, не устоял перед напором, и сдался, и выпил, и еще, и
добавил, а потом они добавляли в "Апельсине", и в "Трех греках", и,
кажется, в "Белом Слоне" - но вот тут уже особой уверенности не было,
возможно, что и не в "Белом Слоне", но что добавляли - это точно; и Петер
лез целоваться, и рычал, что Маттиас - сухарь, а Магда - дура, счастья
своего не понимающая, и что тошно все на свете, правда, Томми, а?.. и у
Томаса еще хватило сил, как бывало это всегда, дотащить вяло упирающегося
Петера до дому... а вот дороги к себе домой он уже вспомнить не мог, но,
судя по всему, без приключений не обошлось, потому что скула припухла и
кровоточила, а костяшки пальцев левой руки сбиты, и тьма была такой
плотной, что проснуться казалось попросту невозможным...
железнорукие тени, выполненные в черно-красных тонах, материализовались,
уплотнились, сорвали одеяло, рывком поставили на ноги, надавали для
острастки пощечин, распахнули окно.
похмельный, голый, дрожащий, прикрывающий срам перед чеканными ликами
черно-красных, перед их дубинками из красного дерева, висящими на черненых
стальных цепочках? На закругленных толстых концах дубинок - выпуклые
пластмассовые колечки; сходство со срамом дополняет название: "венерин
поясок".
спасибо похмелью? - ничто и не воспринималось как нечто слишком уж из ряда
вон выходящее.
видимо, уже и не будет. Маттиас? Брат выдержит, он сильный, не чета мне.
Да ведь его они и не тронут..."
случилось так, как и должно было случиться. К чему скрывать? - давно уже
он не то чтобы предвидел, но и предчувствовал нечто похожее - по странной
пустоте, с некоторых пор возникавшей при появлении его на улице, в
институте, в компаниях, кроме, конечно, самых близких. Но самым близким, в
сущности, был только Петер, ближе не было никого, а Петер всегда оставался
самим собой, немного крикливым, под хмельком - хамоватым, но всегда и
везде - Петером, его, Томаса, половинкой - с самого детства, его вторым
"я", так что Петер в счет не шел, а вот остальные... Его не то чтобы
чурались, нет, но отчуждение ощущалось явственно; такое ощущение,
теперь-то наконец Томас понял, было неизбежным предзнаменованием прихода
черно-красных.
себя применением немедленных и праведных пыток, а просто пару раз - так,
для острастки - огрели дубинкой, после чего милостиво дозволили одеться.
Обыск был недолог, все подлежащее описи, было описано, и его, нахлобучив
на голову колпак, проштампованный на лбу клеймом "НН" - "Неисправимый
Негодяй", препроводили куда следует, здраво полагая, что особого интереса
он к себе не привлечет.
вкусы постоянного владельца. И, разумеется, портрет напротив входа -
размером вполне средний, не то чтобы сержантский, но, разумеется, и не
генеральского разряда. Обычнейший портрет, серийного выпуска: челка, усы,
благородная седина, обрамляющая высокую лысину, меченную родимым пятном,
естественно, брови и - чуть угадываемо - легкий, почти незаметный дымок от
скрытой где-то за пределами рамы трубки.
Протопав по коридору, в кабинет вошел коренастый крепыш в черно-красном
мундире с золотыми галунами и бросил небрежно:
распорядком движения и, повернувшись, спокойно, как формулу, заключил:


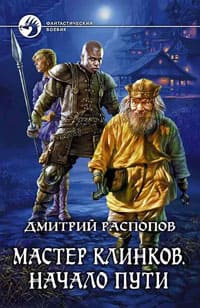



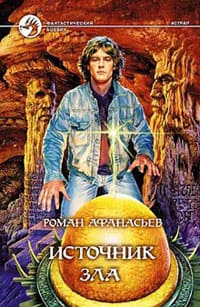 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Трубников Александр
Трубников Александр Гуревич Георгий
Гуревич Георгий Панов Вадим
Панов Вадим Андреев Николай
Андреев Николай