шел по снегу нагой монах, слепо протянув вперед руки, шел за ему одному
видимым, не чуя босыми ногами промозглой снежной дороги...
манит к себе, манит... и кругом - словно бы паутинка неясная качается в
воздухе, кой-где сбиваясь в едва различимые клубочки... но там, где идет
синеглазая ведьмачка - исчезает паутина, скукоживается, и словно бы
светлее становится воздух...
Всколыхнулись облачком волосы, укрывая нежные груди.
сладкие, нежные-нежные; по-девичьи неопытны ягодные уста, но не знал иных
Феодосий, да и к чему иные?..
распрямилась согбенная спина... и каплей горечи - непониманье: отчего же
только теперь?.. вот так бы в юные годы - разве посмел бы кто обидеть
Ее?.. без меча бы разодрал, зубами бы грыз...
вместе с власяной клеткой пала и цепь, державшая душу...
святое-то место нагишом. Грешно... Но в чем грех? ведь не кто иной -
Велюшка велела. Значит, по сему и быть.
подбадривая.
затверженное. Глухо щелкнув, вошел в пазы брус, замкнул щеколду; плотно
заперта церковь изнутри.
мимо Богоматери, мимо Спасителя самого...
труд. Намеком на пропавшую крестовину - бугорки по бокам, словно уши на
шишковатом черепе. И похож был камень боле всего на человечью голову,
наскоро вытесанную неумехой-камнерезом: уши-нашлепки, нос бугром, низко
нависшие уступы бровей...
неизмеримый покой, и неизбывное одиночество, и глубокий, непроглядный сон
без сновидений... а еще - огорчение, и нежелание просыпаться, и
растревоженная дрема...
смальты-мозаики, замирали ненадолго и сменялись новыми:
непознаваемо-вечную мглу ощутил Феодосий и тяжкий груз бесконечного
безвременья; желто-багровый внепредельный огонь обжигал неоглядную даль
воды и усыхал, коснувшись ее, но и смиряя жгучим прикосновеньем; бешеный
ветер гнул каменные громады, разбиваясь о них, и утихал, и снова
взметался, раскручивая смерчи вырванной с корнем земли... и все это
истекало из лет неисчислимо давних, незапамятных, и не было в картинках ни
рыжего солнца, ни блестящего снега, ни мерцающего серебра равнодушной
луны...
не подпустив к камню; была она гладка на ощупь, дышала вроде как живая и
почти поддавалась, но и удерживала до времени...
и смятение от великих грехов...
пришедшему пониманию, и забылся, не слыша ничего, не ведая, что творится
за стенами.
путь. Шел к двери, не глядя на образа, и угодники провожали его
внимательными взглядами, словно благословляя на подвиг.
не тлеют лампады; лишь немного света проникло туда, и никак не различить
во мгле щеколду.
тел души павших богатуров, и вместе с угольями, еще до темноты, истлеет
Ульджаева жизнь. Останется только медленный путь по ледяной реке, длинная
- на несколько дней и ночей растянутая смерть. И удавка в стане Бурундая
будет лишь избавленьем...
быстро, и теперь стражи, послушные, как всегда, старались глядеть мимо, и
даже юркий лекарь-тангут, вливавший снадобье в рот бившемуся в судорогах
отцу, избегал прикосновений; все они были живы и надеялись жить дальше, а
для Ульджая все осталось позади, и живые сторонились его как заразного.
опрокинутый наземь стригун-жеребенок, который до последнего мгновенья не
верил в погибель и вдруг, уже ощутив на горле короткий холод ножа,
взбрыкивает и пытается рваться из пут, норовя по-волчьи грызть руки,
прижавшие голову к земле.
прислушиваясь к частому дыханию задремавшего наконец Саин-бахши, думал не
о смерти, а о луне, большой и круглой, висевшей с вечера над станом, пока
гроза и град не спугнули ее. Старики говорят, что это - лаз, ведущий в
края, где кочуют предки. Тогда где-то там далеко, за серебряным пологом -
почему нет? - юрта его матери. Она варит жирную шурпу в казане, она
подбрасывает в костер комки кизяка и - конечно же! - поджидает его, своего
давно потерянного сына. Ждать ей осталось недолго. В тот миг, когда тонкая
тетива с шуршанием ляжет на шею, он переступит серебристый порог и
присядет у материнского очага. Он зачерпнет похлебки из казана, и
раскинется на приготовленном войлоке, и, не глядя вниз, на землю, спросит
ее: отчего же случилось так, что вырос и умер, так и не узнав тепла ее
рук?
все: и смутные картины в неясных снах, и вспышки ярости (кто же не слышал
о буйстве меркитов?), и умение подтянуть, не уча, любую песню (не было в
степи певцов лучше меркитских...); выросший в добрых чужих руках
меркитский щенок, вот ты кто, Ульджай, единственная капелька вылитой без
остатка крови, последний осколок великого народа, ненавистного Потрясателю
Вселенной и вырезанного под корень.
чтоб не осталось мстителей, чтобы забылось преступление... и он был мудр,
как всегда, неповторимый хан, ибо меркиты не прощали обид, вот почему -
всех!.. и поэтому он ушел, избежав мести... и некому было отплатить:
последний росток был слишком мал тогда и не знал ничего о себе, а теперь
он умер заживо... и всех дел в этой жизни осталось у него - довести джауны
назад, в ставку Бурундаю...
пробежал озноб - Ульджаю показалось, что это дух матери, или братьев, или
кого другого из родни мечется в урусском небе, не находя успокоенья...
готовую в любой момент прерваться и не дающую облегчения телу. Почти
тотчас открыл глаза, ощутив: что-то не так. И чуть погодя сообразил: в
юрте тихо! Из-под набросанной в углу груды шкур не было слышно привычного,


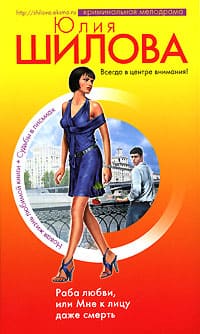
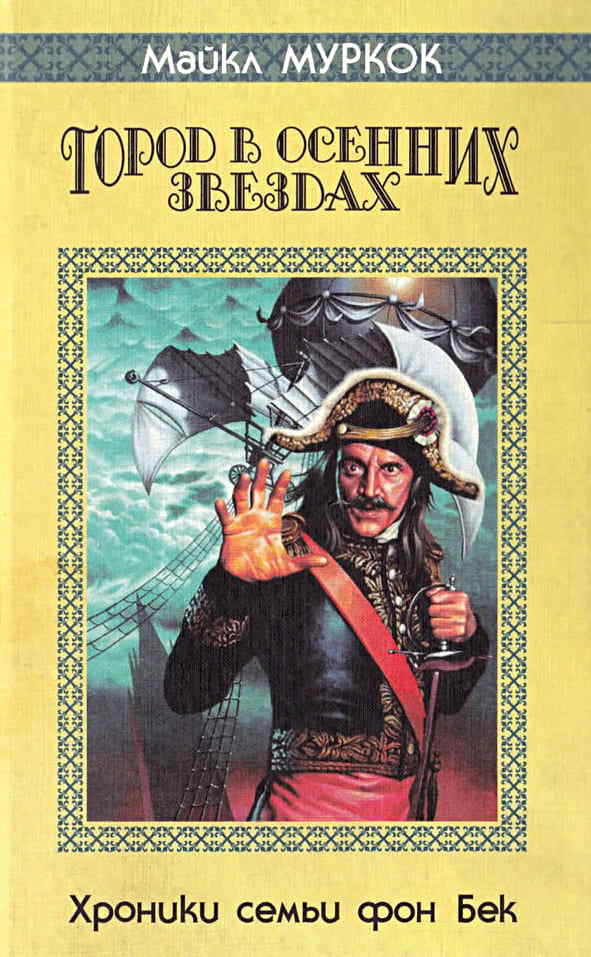


 Орлов Алекс
Орлов Алекс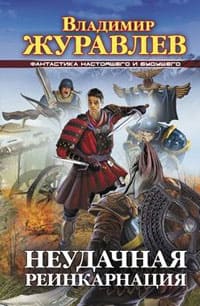 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир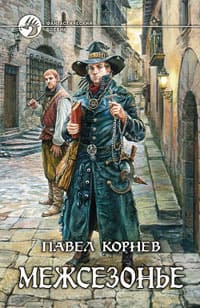 Корнев Павел
Корнев Павел Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей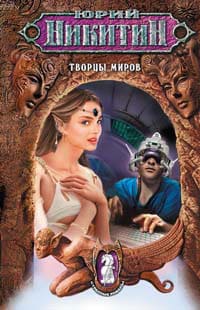 Никитин Юрий
Никитин Юрий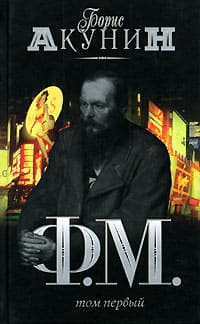 Акунин Борис
Акунин Борис