Владимир ВОЛЬФ
ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ
взвыть жаворонок аварийной сиреной - распугать всех за несколько жалких,
оставшихся секунд...
немного - и он захлебнется сосущей тошнотой, похожей на ту, возникшую у
него однажды при виде чужой открытой раны - с мокрой текучестью багровых
сгустков и сахарным колышком раздробленной кости.
спасателей с чем-нибудь обнадеживающим, вроде, как Рытины в лихорадке
представилось - куска брезента, на который есть надежда попасть с высоты
горящих этажей...
нарастал, крестик уверенно целился в центр городка и поздно было уже
катапультироваться, как и поздно было бежать через степь к универмагу -
предупреждать, эвакуировать... Рытин только заткнул уши, чтобы не
выплеснуло мозг от гулких и тяжелых ударов сердца.
багрово-огненное облако, дрогнул, кое-как выпрямился, и перемахнув черту
поселка, понесся на аэродром - прямо на две солдатские фигуры, взлетную
полосу и груду щебня.
не выпущены шасси. Беззвучно вспыхнули за кормой цветы парашютов6 нос
задрался напоследок, показав зеркальное, в мелькающих тенях брюхо, и
как-то сразу наполнившись свинцовым весом, истребитель гулко принял на
себя утрамбованную тушу земли.
что вовсе не соответствовало басовитому грому, который бил в стороны и
пробирал солдат муторной дрожью. Рытин вспомнил о себе. Бежать было поздно
и тогда он повалился прямо в колючую полынь - все еще сжимая голову
мокрыми ладонями.
прорываясь треском и невнятным, вынимающим душу всем. Потом гул как-то
сразу оборвался - остался лишь вой, да и то режущий откуда-то сзади - по
сапогам Рытина. Выл Манько. Вжатый в щебень, глядя мимо Рытина -
водянистым, обреченным взглядом, выл от непонятной жути - жалобно и тонко,
- как пес на живодерне.
самолет. Одно крыло обвалилось и торчало теперь из взрытой почвы, от
дымного фюзеляжа слезился жар, а на месте кабины, как показалось Рытину,
багровела та самая открытая рана, от которой хотелось бежать подальше, или
хотя бы не смотреть на нее - на что-то полуживое, беспомощное, полное боли
и предчувствия смерти.
думать.
Манько, а тот швырялся в него щебнем и что-то визгливо доказывал...
кабины, лишенной фонаря, рядом с белым шлемофоном... Рытин ворочал рыхлое
тело и чуть не плакал, пытаясь разобраться в путанице ремней. Сзади
доносился истошный мат напарника, и не солнце уже обжигало наждак ХБ, а
прозрачные языки пламени, тихо и властно охватывающие истребитель со всех
сторон. Рядом неожиданно оказался Манько и оттолкнув, сам впился в упрямые
замки...
лишь неуклюже подталкивал, то и дело наступая на тряпичные ноги раненого.
не уткнулся в ладонь пилота. И вот тогда он заметил побагровевшую от
натуги рожицу - побагровевшую от тщетной попытки выбраться из
одеревеневшей перчатки. Летчик словно спал - красивое его лицо, совсем не
тронутое ударом, застыло по-стрелковому - будто целился он куда-то в
глубине земли, сощурив левый глаз и чуть оскалившись, а то что было у него
в руке...
болванчика, какой вдруг неуместный интерес обуял его в двух от опасности?
Манько уже поднимался с колен, желтоватый резной чертик выскальзывал из
перчатки и в этот момент... самолет взорвался, сразу затмив солнце густым
чадом и упругой волной огня, а секундой позже Рытин почувствовал, что его
съедают живьем...
за них он переживал больше всего; жгучий треск оглушал, словно трещали
нервы - от страха и боли...
кабине, ни в комбинезоне пилота - бензинового запаха не слышал. Даже лицо
его было бледным и сухим... Теперь они катали его по траве, сжигая кожу
ладоней - Манько яростно хлестал жалкой пилоткой, а Рытин, сообразив
наконец, рванул гимнастерку и мимоходом обнаружив на ней гигантскую
пропалину, принялся сгонять липкое пламя.
липкий брезент, и в один момент торопливые руки спеленали летчика. Рытина
теснили, а он все пытался вытащить из-под грубых подошв свою втоптанную в
пыль гимнастерку, пока его не задело случайное плечо - прямо по носу и -
отрезвило. Брезент упорхнул словно плащ фокусника и Рытина как будто еще
раз с'ездили - теперь уже пожестче...
с волдырями и грязными кровавыми подтеками, и шлемофон казался одним целым
с этой головешкой. Рядом стоящий Манько неожиданно перекрестился -
неожиданно для его наплевательского характера...
уселись в открытый "бобик", рванувший с места так, словно за ним гналась
новая волна взрыва. Степь задрожала, запрыгала, и Рытин в потоке ветра
почувствовал, насколько сильно обожжена у него спина. Манько сидел рядом и
наблюдал за убегающей возней, и у него, как ни странно, ХБ было в порядке,
не считая грязи и двух-трех несерьезных дырок. Что-то неуютно кололо в
бедро и пошарив в галифе, Рытин достал нелепого, размером с зажигалку,
резного чертика... То был брелок пилота.
долго квачили холодной и липкой мазью, промокали тампонами и заставляли
сдавать анализы, лежа на животе.
дела его были плохи. Об этом сообщил вежливый, хрустящий портупеей
особист, посетивший Рытина в первый же день его больничной лежки.
Записывал аккуратным почерком, переспрашивал, хмурился и вновь повторял
вопросы: Рытин чуть не осатанел, в десятый раз описывая падение.
напоминал полуголого Черчилля, даже маленькая сигарета торчала из пухлых
губ и рожки были в пору и не казались лишними, а скорее сквозь макушку
двоякую мефистофельскую сущность. Губы кривились лукаво и в соавторстве с
ладошкой, сложенной "щипчиками", как бы говорили: "Денежки счет любят".
Нельзя сказать, что работа была искусной, но все же она являлась точкой
приложения таланта - виднелись быстрые, умелые следы резака, наждачной
шкурки, а иные черты, лишившись скверного лака, вовсе готовы были ожить и
зашевелиться. Такие штучки Рытин любил - именно за претензию на
неповторимость. Но сейчас, проходя мимо бойких умельцев, Рытин товаром не
воодушевлялся - берег солдатское жалование, угомоняя себя мыслью о
нездоровом явлении фетишизма.
ладони не должны сжимать ничего кроме штурвала? Может, Потапчук держал его
над приборной панелью - почти как автолюбители со своими уродами в лобовом
стекле? А может, он вообще не выпускал дьяволенка из рук? Хорош авиатор...
Рытину не хотелось ломать голову. То, что случилось с ним, было куда
значительнее и весомей, ведь доныне личного участия в катастрофах Рытину
принимать не приходилось. Лишь в институте, на картошке в осеннюю пору,
стал свидетелем опрокидывания целого трактора, что по хмельной нужде
заехал в колхозный арык. Именно тогда он впервые увидел страшную рану -
открытый перелом на ноге тракториста - веселого, бледного и смертельно
пьяного.
возникала то на подушке, то на его ноге. Под майкой ползали холодные
черви, а рука тянулась к следующей сигарете. Все же его сморило, и,
проснувшись, он вдруг понял, что кончился его тепличный, полудевственный
период синяков и ссадин и наступает неизбежная житейская полоса с
катастрофами, кровью и безвозвратными потерями. Надвигался осенний призыв
и мерещились опрокинутые в канал танки, смятые грузовики и его, Рытина,
тело среди обломков, где он должен был оказаться согласно присяге и
уставу. Но вот уже заканчивался второй год службы, а отделывался он на


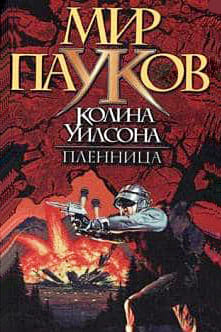
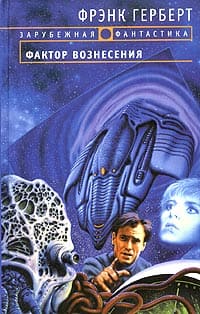
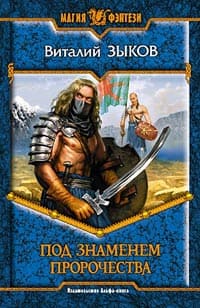

 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Каменистый Артем
Каменистый Артем Прозоров Александр
Прозоров Александр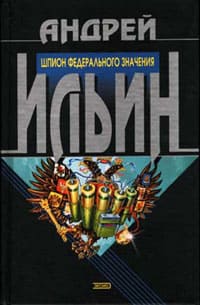 Ильин Андрей
Ильин Андрей Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна