многоголосым шумом и хохотом; король зашел поздороваться с женой и застал
ее за вышиванием.
хлопнул Юту по плечу.
никогда не называл ее красавицей, да и никто не называл, зачем...
клочьях пены, они казались твердыми и скользкими на ощупь; солнце
просвечивало сквозь их грузные тела.
чтобы тут же истончиться и растаять бесследно, перетечь в соседнюю
клубящуюся глыбу, вывернуться наизнанку, поглотить и быть поглощенным...
Арман до бесконечности мог смотреть на их стремительную, жутковатую игру.
отделаться от мучительной привычки - воображать себе, что Юта смотрит на
мир вместе с ним, его глазами... Вернее, он теперь старался смотреть
глазами Юты, переживая за нее и восторг, и удивление, и страх...
облачную гряду и тянется выше, еще выше, чтобы упереться в небо. Здесь не
летали - ни птицы, ни драконы.
больше похожих на норы. Тот, Что Смотрел Из Скалы, больше не появлялся.
теперь в Армане все сильнее и повелительнее. Повинуясь ему, Арман двинулся
в темноту.
скале гнездилось еще много Смотрящих - но их взгляды были слабее и тоньше
взгляда Того, встреченного Арманом вначале. Он ощущал их справа и слева,
они упирались ему в спину - но в лицо почему-то не хотели или не решались
смотреть.
тысячелетние сгустки камня, кладбище ветра и облаков. Время замедлилось -
делая шаг, он успевал передумать сотни мыслей, не доводя, впрочем, ни
одной из них до конца...
кажется, столетие, пока он вдруг понял, что свода над головой больше нет.
Чернота не отступила, а, похоже, стала гуще, но Арман почему-то верил, что
это ненадолго. Он сел, где стоял, подобрал под себя скрещенные ноги и стал
терпеливо ждать.
все, что оставалось над линией, стремительно стало наливаться светом, а
то, что было ниже, оставалось бархатно-черным. Разлом в небесах становился
все ярче, и Арман решил было, что здесь, на краю мира, небо растрескалось
подобно старому магическому зеркалу...
дыхание, прошептал, не отдавая себе отчета: "Смотри, Юта!" Перед ним
наливалась солнцем круглая чаша долины, окруженной немыслимой высоты
горами.
существа, но это все-таки были тени, хотя и довольно уродливые. Солнце
гнало их глубже в трещины, а выше, вчеканенные в наливающийся синевой
свод, ослепительно горели ледяные вершины.
он видит исполинскую челюсть с полукругом сверкающих зубов - оскаленных,
хищных. Открывающаяся ему картина была страшной и величественной
одновременно - горы стояли, как памятник кому-то вечному, как насмешка над
временем, как вызов всем силам мира.
подобного. Скалы были его родиной, случалось охотиться и в горах, и, может
быть, для ящериц, греющихся там на солнце, те горы были таким же
потрясением... Теперь сам Арман ощутил себя ящерицей - маленьким, зачем-то
крылатым зверьком.
запертое вершинами небо.
полупрозрачные мутные глыбы, он стремился все дальше, ведомый только
инстинктом и предчувствиями. Воздух стал жидким и будто бы пустым - чтобы
удержаться, все чаще приходилось взмахивать крыльями. Дышал он теперь так
часто, что обморозил глотку и не пытался уже выдыхать огонь; сверкающие
короны каждой гранью отражали солнце, и, оставаясь холодным, оно слепило и
жгло. Арману казалось, что он обугливается на лету, так и не успев
согреться.
Арман то и дело опускался на смерзшийся снег, отдыхал, соскальзывал...
Четырехгранная ледяная глыба была не первой на его пути.
В серо-синей глубине ему почудился темный силуэт.
льда, он долго всматривался, подергивая свернутыми крыльями.
массивный гребень. Переступая чешуйчатыми лапами - когти впились в
скользкую ледяную корку - он осторожно двинулся в обход.
с одним широко раскрытым, незряче уставившимся из-под надбровного щитка
глазом. Арман встал.
льда. Морда его застыла в нескольких шагах от края, и половина ее,
повернутая к Арману, была видна до последней чешуйки. Очертания тела
терялись в глубине.
веков тогда простоял он здесь, пойманный, плененный, лишенный огня и
погибший страшной для дракона смертью?
глотке, дохнул пламенем на ледяную глыбу. Пламя вырвалось двумя скудными
языками, лизнуло лед и сразу иссякло. Поверхность глыбы около мертвой
морды Хар-Анна покрылась застывшими потеками, как залитое дождем стекло.
Вернулся по-прежнему веселый; гвардейцы и придворные, составлявшие его
свиту и охрану, галдели, хохотали и как-то особенно низко кланялись Юте, и
ей мерещились усмешки, скрываемые в усах. Она ругала себя за глупую
мнительность и глухие, недостойные подозрения, зашевелившиеся в душе с тех
пор, как какой-то барон хихикнул за ее спиной и подмигнул гвардейскому
лейтенанту. Юта увидела его гримасу, отразившуюся в стоящем на столе
серебряном кубке, и долго потом ее мучил постыдный вопрос: почему
подмигнул? Почему за спиной?
смотрела из окна, как Остин, красиво выпрямившись в седле, помахивает
ладонью сбежавшимся придворным... Потом он явился к жене, строгий, как
учебник по дворцовому этикету, заученным движением потянулся к ее руке и
ровным голосом произнес приличествующую моменту фразу:
Остин тоже кивнул и вышел, а свита его поспешила следом, толкаясь в
дверях... Тогда-то Юта и увидела баронову усмешку, которая, впрочем, могла
относиться к чему угодно, а вовсе не к ней, и не к этим холодным и
правильным, совершенно официальным словам Остина. Да и кто запретит
придворным смеяться!
перемигивания, отравилась незаметно для себя.
старушка-вышивальщица, все знали что-то, заставляющее многозначительно
кривиться их рты, придающее вежливым, почтительным голосам скрытую нотку
издевательства... Юта снова, но во много раз острее, чем в отрочестве,
осознала свою некрасивость.
бесстрастные, предписанные Ритуалом фразы. Король жил своей, совершенно
чужой для Юты и, по-видимому, безбедной жизнью - отправлял и принимал
гонцов, как правило, с гербом Акмалии на рукавах, все чаще выезжал на
охоту, забросив государственные дела, где-то пропадал по нескольку дней...
старушку-вышивальщицу со всем ворохом рекомендуемых образцов. Взамен
вытребовала себе бумагу и письменный прибор.
перо то царапало, то исходило кляксами. На бумагу ложились бессвязные
жалобы, Юта злилась и зачеркивала, зачеркивала и злилась, пока, на минуту
задумавшись, не обнаружила вдруг, что, не пытаясь уже писать, бессмысленно
водит пером по бумаге.


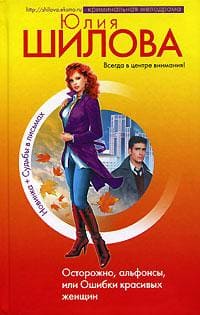
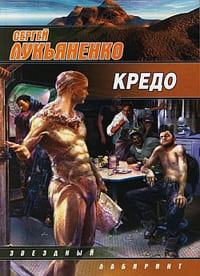

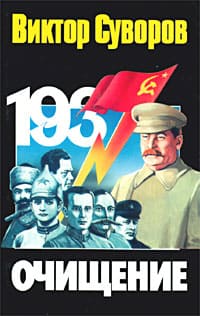
 Пехов Алексей
Пехов Алексей Круз Андрей
Круз Андрей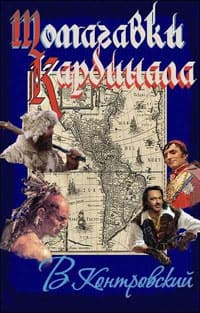 Контровский Владимир
Контровский Владимир Бажанов Олег
Бажанов Олег Шилова Юлия
Шилова Юлия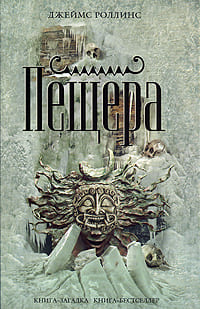 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс