фабричных окошек, абсолютно глухой стены, немого забора да
сумасшедших городских облаков.
Потом они сходились в кружок и так стояли: молча, глаза уперев в
землю. Стояли полчаса, час. Как завороженные. Молчали, не
двигались, не шевелили губами. Глаза открыты, руки сцеплены, как
замки.
Женя, когда увидел, первое что подумал -- сектанты. Потом достал
купленный по случаю телескоп и рассмотрел лица. Они были разные.
Старые, очень старые и не очень, молодые, с усами и с пучками
жестких волос, по-гусарски торчащих из бородавок.
Лиц он всего насчитал двенадцать -- число апостольское.
Но несмотря на разницу лиц, возрастов и одежды, неподвижность и
сосредоточенность взгляда делали их похожими.
В первый раз увидев трансляторов из окна, Женя не узнал самого
главного. Это главное открылось спустя короткое время.
Надо сказать, ко дню знакомства с трансляторами Женя как раз
свел счеты с хором старых большевиков. Те его сами выжили,
посчитав цвет Жениной головы глумлением над красным знаменем и
их революционными идеалами. Женя на большевиков не обиделся.
Взял расчет и, зайдя по дороге в комиссионку, купил за сто
пятьдесят рублей телескоп.
Кружок из странных людей очень его озадачил. Он не мог просто
смотреть из окна, окно мешало, искажая истину и природу. Оно
чего-то не договаривало. И даже теплое стеклышко окуляра держало
сторону не его, Жениного, удивления, а той холодной и плоской
уловки, изобретенной обывателям на потребу.
Ни в какой секте трансляторы, конечно, не состояли.
Женя это понял потом, когда, пружиня головой о забор и посасывая
заноженный палец, разглядывал собравшихся в дырочку. Он все
ждал, чем же закончится их затянувшееся молчание.
Время шло. Трансляторы стояли, словно переодетые в людей рыбы.
Женя устал ждать и уже собрался оставить этот молчаливый
аквариум, когда появился звук.
...Тихо дрожала листва. Серебряный колокольчик звенел то громче,
то совсем умирая. Из глубины леса, из влажной бархатной темноты
смотрели большие птицы. Крик их, похожий на вздох, был глух и
печален от старости и тоски. Ударила капля, другая. Застучала
дождевая вода. Лес зашумел, задвигался, птицы в чаще умолкли.
Голос дождя крепчал...
Сначала Женя подумал, что в доме включили радио. Он оглянулся на
темную стену флигеля. Дом молчал.
И вдруг за забором что-то переменилось. Звук не утих, он
сделался громче и внятней. Продолжали шуметь деревья, и капли
стучали по листьям. Но появилось другое. Появились пропавшие
лица. Лица трансляторов из масок со стеклянными пуговицами
оживали, ожили. Женя увидел, как свет растекается по желобкам
морщин, по вмятинам и небритой коже. Лица преображались. Это
были лица детей, радующихся празднику звуков. Они стояли по
кругу и слушали лес, слушали птиц и дождь, слушали дальний мир,
бывший вне их и одновременно с ними.
Женя был не из тех, кто спешил разложить любую тайну по
полочкам. К позитивистам он относился как к глухонемым -- жалел
их и отходил в сторону. Рационалистов, традиционных марксистов и
неомарксистов-ленинцев, отчасти даже прагматиков он считал
одноногими инвалидами, из глупой гордости не желающих
пользоваться костылями.
Он сразу решил, пусть тайна останется тайной, и раз ему выпало
прикоснуться к ней краем уха, то и того достаточно. Он был не
жадный. И не хотел развести волшебно звучащий круг.
Собрание трансляторов повторилось на другой вечер, и через день,
и в среду. Женя уже заранее ждал, когда последний перевалится
через забор, и приникал к заветной дырочке в дощатой стене.
Последним обычно перелезал белый, как кость, старик в помятой
рабочей робе. Лез он медленно и с одышкой. Жене всякий раз
хотелось его подсадить. Но показываться им на глаза он не
решался.
Теперь он знал, что молчание трансляторов -- лишь ожидание. И он
терпеливо ждал.
Звуки не повторялись. Если в первый раз говорил лес, то на
другой день запела упругая, как струна, тишина. Он никогда не
думал, что тишина способна звучать. Она рассып[/]алась на
разноцветные капли звуков, ни на мгновение не затихала, а жила
глубиной и наполненной звездами бесконечностью.
Женя понял, что это было. Космос. Великий Космос. Здесь, за
простым заборчиком, на затертом среди домов пустырьке.
Сердце его дрожало.
На третий вечер Женя услышал речь. Это не был голос никого из
двенадцати. Странный, ни на что не похожий, он разливался
волнами и мягко касался слуха. Не похожий и вместе с тем
похожий. В нем звучал и шум леса, и плеск дождя, и дыхание
Великого Космоса. Казалось, он вобрал в себя все голоса мира и
одновременно оставался самим собой.
Женя вслушивался, прильнув к забору. Он боялся дышать. Он хотел
проникнуть в смысл непонятной речи. Он сердцем чувствовал, нет
слов важнее. Вот-вот, и тонкая пленка непонимания лопнет. Еще
немного...
-- Эй, там! Никому не двигаться, стреляю.
Участковый Гром стоял на краю огромной, как смерть, стены, что
саваном застилала полнеба. Снизу он казался маленьким, как
лесной паучок, и таким же игрушечным и не страшным.
Никто и не думал двигаться.
Грому этого показалось мало.
-- Чтобы ни одна сука у меня...-- И не допищав до конца, он
спрятался за кваканье пистолета.
Эхо облетело пустырь, и уже слаженный лягушачий хор, не хуже
краснознаменного, запел, будоража воздух.
Но все это было мелко, как мелкое пригородное болото. Никто из
двенадцати, и даже тринадцатый, Женя, не заметил ни кваканья, ни
брюзжанья с края стены.
Голос. Другой. Высокий, как само небо. Он нисходил на них, как
огненные языки на апостолов в праздник Пятидесятницы. Он не
отпускал, и разве слушающим его было дело до какого-то Грома --
пустячка-паучка, чертом заброшенного на крышу.
Сверху по стене поползла тонкая нить паутины. Чем ниже она
спускалась, тем становилась толще, и вдруг у самой земли
оказалась мощным витым канатом.
Женя не сразу понял, что происходит. Крик и выстрел он слышал,
но они чиркнули серной молнийкой по самому краю сознания, не
оставив на нем ни царапины. Не в молнийке было дело. В глазу
сидела ресница. Она досаждала и мешала смотреть, погружаясь в
зрачок, как вражеская подводная лодка. Она угрожала свободе.
Женя сначала мизинцем, потом краем воротника попытался спасти
попавший в беду зрачок. Но простые средства не помогали. И не
мудрено -- когда ресница в фуражке и у нее расстегнута кобура,
мизинец помощник неважный.


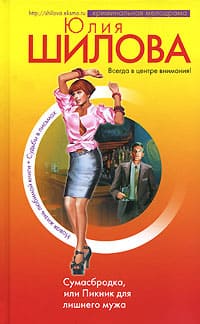



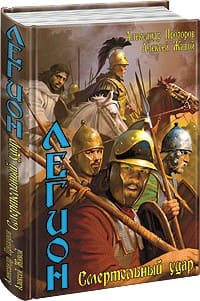 Прозоров Александр
Прозоров Александр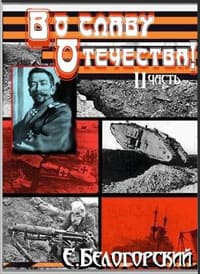 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений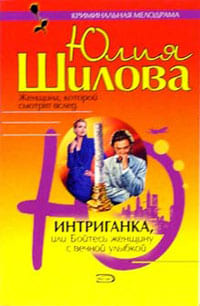 Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел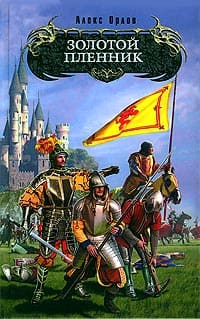 Орлов Алекс
Орлов Алекс Браун Дэн
Браун Дэн