Сергей КАЗМЕНКО
СТРАШНЫЕ СКАЗКИ
востока, иногда с запада, иногда с юга. Говорили, что он может прийти
откуда угодно. Даже с севера, из-за неприступных скал, что высились там,
не давая миру упасть в Черную Бездну, хотя даже самые древние старцы не
помнили, чтобы он хоть раз пришел с той стороны. Ранним утром, едва
начинало светать, он выходил на какую-нибудь из тайных тропинок, ведущих к
деревне, и не спеша спускался по ней в сердце долины. Он аккуратно обходил
замаскированные волчьи ямы с заостренными кольями на дне и настроенные
самострелы, стреляющие отравленными колючками, не сворачивал на ложные
ответвления, где ждали, готовые упасть на чужака, огромные бревна, не
забывал склонить голову перед спрятанными в листве идолами и тем отвести
их злобу. Он шел так, будто и не был чужаком в деревне, будто сам придумал
и создал все эти препятствия на тропе, сам вытачивал из дерева ужасающих
ликом идолов и прятал их на деревьях, сам приносил им жертвы, возвращаясь
с удачной охоты. Он знал, наверное, все секреты племени, но не разу не
выдал их чужакам, и потому сама мысль о том, что он может предать, никому
не приходила в голову. Когда солнце выглядывало из-за гор на востоке, он
уже выходил из леса и шел мимо огородов прямо к деревне. Навстречу ему
попадались спешащие на свои огороды женщины, и он улыбался в ответ на их
приветствия, и шагал дальше - не спеша, но и не задерживаясь ни на
секунду. Но теперь он шел уже не один - дети, направлявшиеся помогать на
огородах своим матерям, тут же забывали о своих обязанностях и
нетерпеливой, взволнованной толпой следовали за ним. А иные из них со всех
ног бежали назад, в деревню, чтобы первыми принести весть о его прибытии -
но весть эта каким-то неведомым образом всегда обгоняла даже самых
быстроногих, и там, в деревне, уже собирались дети со всех других
огородов, потому что никто из взрослых не решился бы отнять у них
праздник, который он приносил с собой.
его там, уже готовились жадно ловить каждое произнесенное им слово,
готовились без устали слушать его чудесные сказки. Он всегда приходил
только в хорошую погоду. Даже в сезон дождей небо очищалось с его
приходом, а с гор начинал дуть приятный прохладный ветер. Он выходил на
середину площади и садился у очага, в котором никогда еще с основания
деревни не угасал священный огонь. И все вокруг замолкали, и становилось
тихо. Только шелестела листва деревьев под несильным ветром, только
перекликались далеко в лесу птицы да шумели где-то за лесом горные потоки.
нелепую фигуру, одетую в немыслимые лохмотья, на его руки и ноги, слишком
длинные и тонкие, на его лицо, кроткое и доброе, покрытое глубокими,
словно шрамы, морщинами, смотрели в его ласковые глаза, за которыми
скрывался целый мир, им непонятный. Он был не таким, как все, но это
никого не удивляло. Так было всегда, и казалось, что так всегда и будет.
Они поразились бы, увидев на нем вместо лохмотьев, сделанных из неведомого
материала, обычную для себя набедренную повязку или же накидку, которую
надевают дождливыми холодными вечерами, как поразились бы, если бы вдруг
исчезла его худоба или разгладились морщины. Он был не таким, как все, но
так было всегда. Никто не знал, сколько ему лет, но самые древние старики
помнили, что он приходил в деревню, когда они были еще детьми, и уже тогда
выглядел таким же старым и морщинистым. Дети очень любили его и некоторые
взрослые по привычке очень любили его. А остальные... Большинство взрослых
не смогло бы найти слов, чтобы определить свое к нему отношение. Но вражды
к нему не чувствовал никто. Он никому не причинил зла, и никто из них не
хотел бы причинить зло ему. Нет, они его не боялись - но внутренне были
убеждены, что обладает он немалым могуществом, и причинивший ему зло будет
немедленно повержен в прах.
Иногда - всего через одно полнолуние, иногда - через несколько дождливых
сезонов. Но дети деревни всегда ждали его. Стоило лишь наступить погожим
дням, как они, порою даже не осознавая этого, каждое утро с надеждой
смотрели на выныривающие из лесной чащи тропинки, ожидая праздника,
который он приносил с собой. Никто не знал, где он бродит между
посещениями деревни, но догадок высказывалось множество. Иные говорили,
что он обращается в дерево Кха и стоит высоко в горах на границе между
лесом и лугами, и в доказательство своей правоты приводили цвет его кожи -
темной, с пыльным оттенком, так не похожей на красно-коричневую кожу
жителей деревни и так напоминающей кору дерева Кха. Другие же, мыслящие
более рационально, говорили, что ходит он запретными горными перевалами и
навещает иные племена, живущие в немыслимой дали за много дней пути от
долины. И большинство верило, что это действительно так, что бывает он и у
людей племени Зака, которые носят разноцветные раковины в носу, и у людей
Бау-Бау, с которыми иногда удается обмениваться у ручья, получая за
кремневые ножи куски восхитительной красной ткани, и даже у племени
Людоедов, Которые Живут За Горой, хотя последнее предположение и выглядело
невероятным.
не рассказывал. Он рассказывал только сказки. Он начинал говорить тихим
голосом, но тишина на площади стояла такая, что было отчетливо слышно
каждое слово. Тихим голосом он начинал рассказывать детям удивительные
волшебные истории о дальних странах и чудесных превращениях, об
удивительных событиях и удивительных людях, о добрых духах и злых демонах,
истории, которые захватывали их души и заставляли забыть обо всем вокруг,
которые никто из них не смог бы потом повторить и даже вспомнить от начала
до конца, но которые поселяли в душах воспоминания о чем-то праздничном и
возвышенном, воспоминания, которые сохранялись потом на всю жизнь. Никто,
кроме него, не знал таких волшебных сказок и никто не умел рассказывать
сказки так, как он. И дети узнавали из этих сказок обо всем на свете. И об
огромных озерах, наполненных удивительной соленой водой, таких больших,
что с одного берега нельзя увидеть другого. И о таинственной и манящей
Белой Воде, что покрывает склоны самых высоких гор, не скатываясь вниз и
не просачиваясь в почву. И о дальних путешествиях и удивительных
приключениях. И о необычных животных и странных растениях. И не замечали
они, как бежит время, как все длиннее становятся тени и все ниже
опускается солнце...
огородов взрослые, вождь племени выходил на площадь и звал сказочника к
себе в хижину разделить с ним ужин. Сказочник садился напротив вождя и ел
обычную скромную пищу, запивая ее обычным отваром из корней гаки, и никому
не приходило в голову предложить ему что-то лучшее, приготовить в этот
день праздничное пиршество, подать хмельного сока абаки или сушеных плодов
такка. Так повелось исстари, так было и при отцах, и при дедах, и при
прадедах. Он рассказывал им сказки и ел их простую пищу, и пил горьковатый
отвар из корней гаки, и все это было в порядке вещей, и все знали, что так
будет и при детях, и при внуках, и при правнуках.
гор, когда становилось тихо и тепло, и даже мошкара, казалось, засыпала,
все снова выходили на площадь - и взрослые, и дети, и старики, и больные.
Все собирались на площади и разжигали в середине ее большой костер. Вождь
с семьей садился у самого огня, сказочник устраивался рядом с ними, и
начиналось самое главное, то, чего все боялись и чего с замиранием сердца
ждали весь день.
огнем костра, и на сказочника, сидящего в этом кругу, и ничего уже больше
не видели, и казалось, что весь мир вокруг поглощен этой темнотой.
в горах, в водах наполненного солнцем ручья и даже в собственной хижине.
Но поначалу никому из слушателей чудовища эти не казались страшными, и с
разных сторон слышались смешки и веселые возгласы тех, кто хотел казаться
смелее своих соседей. Но постепенно сказочник овладевал вниманием, и все
меньше шума было на площади, все лучше слышен был его голос, такой тихий и
спокойный, и треск дров в костре, и редкие крики ночных птиц. И тогда он
начинал рассказывать о глазатиках, о тех, что ночами воют на болотах. Он
вытягивал губы трубочкой и прикладывал к ним ладони, и выкатывал глаза, и
начинал выводить тонко и протяжно, подражая их вою: "У-у-у-ууу, У-у-у-ууу,
У-у-у-ууу...", тонко, протяжно и тоскливо. Сначала оживление появлялось на
лицах от этого представления, снова раздавались смешки и возгласы, но он
продолжал выводить "У-у-у-ууу, У-у-у-ууу...". И постепенно тоскливый этот
крик проникал в душу каждого из сидящих на площади и заполнял ее всю без
остатка ощущением тоски, безысходности, скорби. Темнота вокруг все больше
сгущалась и наполнялась движением и смыслом, и дышала ужасом в их затылки,
и они уже не решались обернуться, не решались даже на мгновение оторвать
взгляда от сказочника, сидящего у самого огня, не решались пошевелиться и
перевести дух.
корнями деревьев, о бренчаликах, которых нельзя увидеть, не ослепнув, об
огромном лесном пауке Пу, о черном пальце из ручья, о прозрачном человеке
и невидимом путнике... Они смотрели на него и уже не видели его фигуры,
потому что огонь в костре угасал, и становилось совсем темно, и уже
виделись им на фоне красных угольев те ужасы, о которых он рассказывал.
Волосы дыбом становились на их головах, и что-то холодом дышало им в
затылки, но они сидели и слушали и не решались издать ни звука. И он
говорил о маленьких черных людях, которые охраняют светящиеся камни в
глубоких пещерах, и о хватале, от которого нельзя спастись, о красном лесе
и хромом Бвуке, о глазастых деревьях и царапиках, и о чем-то совершенно
уже непонятном, что он называл Кшара, которое было ужаснее всех их вместе



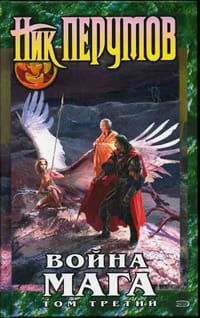

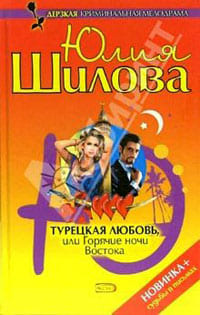
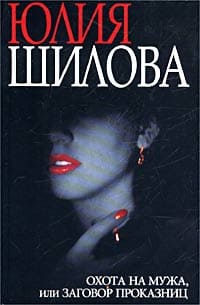 Шилова Юлия
Шилова Юлия Флинт Эрик
Флинт Эрик Махров Алексей
Махров Алексей Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия