один американский мальчик - зато уж такой противный, что ему и утонуть
не помешало бы. Он мнил себя вождем краснокожих, но воины моего
детства наверняка утопили бы этого "вождя" в поповском пруду. Первый
помощник старался рассеять атмосферу тревоги, распевая приятным
голосом арии из итальянских опер. Тут же все вспомнили знаменитый
оркестр "Титаника":
искусства, почувствовал что-то неладное и стал чаще обычного (и всегда
втроем) навещать своего "голубого ангела". Прав был Шульгин, обличая
евреев: нет ничего противнее хохла-радикала и пьяного немца: Марлен
это смущало, да и женская половина населения парохода, страдающая от
сплина, отвлеклась от готовности шлюпок и фасонов шляпок, чтобы
заняться нами. Камеристка Марлен, постоянно теряющая вставные зубы,
отвечала им на все вопросы невразумительным шипением.
тупым перочинным ножом вскрыть сигнальный ящик.
физиономии, и продолжал ковыряться в замке.
Айсберг. Айсберг.
Айсберг видели уже все, и даже капитан в свой бинокль тоже видел
айсберг. Смотреть приходилось против садящегося солнца, и в бликах
можно было разглядеть решительно все, вплоть до всплывшей раньше
положенного срока Атлантиды.
от горизонта Марлен из толпы и увлек в свою каюту. Если мы утонем,
любимая, то мы утонем вдвоем, как те, которых откопали в Помпее: Образ
был, конечно, чудовищный, но почему-то ничего другого в голову не
пришло:
своих "лейки" и "кодака". До моей каюты они не добрались, потому что
мистер Атсон жил чуть ближе к трапу, а после беседы с ним ни желания,
ни возможности продолжать поиски у них не было. Знаем мы этих
скотопромышленников из Чикаго:
полагая, что
деле сиятельный повеса страдал морской болезнью в столь острой форме,
что его укачивало даже при взгляде на фонтан, и он в продолжение всего
рейса не вставал со своего ложа скорби (а отнюдь не страсти). Тогда,
во всяком случае, все так думали.
Стюард получил неплохую мзду за скромность. А на четвертый день меня
почему-то потянуло к товарищу Агранову Якову Сауловичу: Сказать самой
Марлен Дитрих "Ступай, милая", словно горняшке, было как-то неловко, а
я, в отличие от Осипа, так и не изучил "науку расставаний", но тут -
начало качать:
страдала, равно как и я, но вот беда: луна была к нам немилостива...
да и камеристке
актрисы значит стократ больше, чем расторопный денщик для гвардейского
офицера. Поэтому...
Штернбергу.
твердо стоял на ногах, но во всех мужчинах видел греческого принца,
бедняжку. Меня он именовал "ваше высочество", а я не стал его
поправлять.
рассказывай.
цыганской, местами испанской речи события осени сорок второго мешались
с зарей перестройки , а ужас воспоминаний о том, как ягд-команды гнали
отряд на эсэсманов, а эсэсманы - на егерей, мерк перед ужасом
недавним, когда заявились к нему, барону крымских цыган, какие-то
неправильные - с виду цыгане, но речи не знавшие и вытворявшие такое,
что он, в свои пятьдесят пять еще черный как головешка, поседел в
неделю: не спрашивай, батяня, лучше не спрашивай, все равно не смогу
рассказать, потому как и слов таких нет, и грех, смертный грех об этом
даже рассказывать...
Швеллера? У него ведь тоже слов не было, поскольку русского не знал. А
как рассказал-то все!
сейчас мы с тобой говорим, а они слушают: Под полом сидят.
головой.
услышали?
может.
понимаешь ты, с кем связался:
Степанович, щурясь от папиросного дыма. - Помнишь, как Эдик Стрельцов
после отсидки на поле вышел и кое-кому класс показал? Вот примерно так
я себя сейчас чувствую.
приятеля (а точнее сказать - внука одного старинного коктебельского
приятеля) Николая Степановича. Было очень тихо вокруг. Домики соседей
стояли запертые. Два мощных кипариса росли по обеим сторонам крыльца.
Пахло сыростью и прелой листвой. На Илью с перепугу накатил жор, он
опустошал одну за другой банки с хозяйской тушенкой и запивал
хозяйской "изабеллой". Николай же Степанович, напротив, испытывал
отвращение ко всяческой пище. Он лишь пригубил вино и теперь жевал





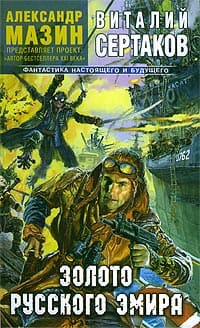
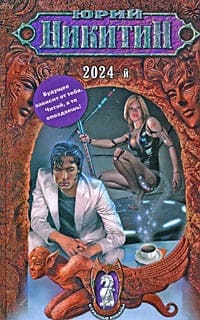 Никитин Юрий
Никитин Юрий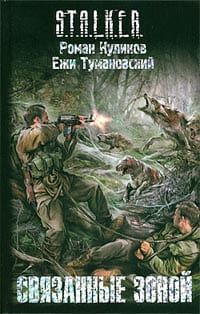 Куликов Роман
Куликов Роман Лукин Евгений
Лукин Евгений Перумов Ник
Перумов Ник Шилова Юлия
Шилова Юлия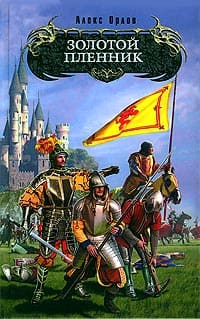 Орлов Алекс
Орлов Алекс